ЛЮБОВНАЯ ЛОДКА, УПРЯЖЬ ДЛЯ ПЕГАСА И ПОХОРОННАЯ КОЛЫБЕЛЬНАЯ
(Три стихотворения и три периода Пастернака)
Поэт, написавший в начале 20-х годов Я не рожден, чтоб три раза Смотреть по-разному в глаза, пережил длительную эволюцию и незадолго до смерти признался, что не любит «своего стиля до 1940 года». Принципиальное единство поэтики Пастернака (далее П.) отмечается большинством исследователей, как не оспаривается и необходимость периодизации. Начало диахроническому подходу к П. было положено Нильссоном (1978), сопоставившим, на примере двух стихотворений, стилистику раннего и позднего П. Наша статья — попытка развить его подход.
Вопрос о периодах пастернаковского творчества можно решать по-разному. Мы будем исходить из концепции трех периодов (раннего, среднего и позднего) и разберем, в качестве их образчиков, три стихотворения. Периодизация неизбежно усложнит описание — между универсалиями поэтического мира П. и локальными особенностями отдельных текстов свое особое место займут инварианты периодов. Но поскольку разные художественные построения будут выражены в сходных терминах, сопоставление трех периодов получит наглядную форму.
Среди различных интерпретаций отдельных текстов и целых поэтических миров обычно можно выделить некое «нормальное» прочтение (Жолковский и Щеглов 1975: 154 сл.; 1976). Следуя более или менее общепринятому пониманию П.,[1] мы делаем упор не на новизну прочтений, а на эксплицитность описания. Отсюда и выбор первого текста, классический анализ которого мы используем для введения в поэтику Пастернака и в применяемый формат описания.
1. “Сложа весла” (1918)
| 5 |
Лодка колотится в сонной груди, Ивы нависли, целуют в ключицы, В локти, в уключины — о, погоди, Это ведь может со всяким случиться! Этим ведь в песне тешатся все. Это ведь значит — пепел сиреневый, Роскошь крошеной ромашки в росе, Губы и губы на звезды выменивать! |
| 10 | Это ведь значит — обнять небосвод, Руки сплести вкруг Геракла громадного, Это ведь значит — века напролет Ночи на щелканье славок проматывать! |
1. 1. Разбор Нильссона. Его статья (Нильссон 1978; см. тж. 1976, 1979) начинаетс с того, что восстанавливает «реальную» картину ночного свидания, стоящую за текстом и многообразно мотивирующую оригинальный троп ′лодка=сердце′. И сцена в целом, и этот троп, и ивы, целующие части тела (ключицы, локти)и части лодки (уключины),продиктованы типично пастернаковским ощущением соседства всего со всем в мире, где нет границ между людьми и природой, живым и неодушевленным, между одним словом и другим. Бросается в глаза метонимическая фрагментарность изображения, напоминающего загадочную картинку или полотно кубиста: в стихотворении фигурируют не герои, а лишь куски их тел, а также следы и смещенные контуры их действий — локти, губы, раздавленные цветы, поцелуи (ив), объятья (адресованные небосводу). Эта манера письма заставляет зазвучать по-новому заезженную лирическую тему любви в летнюю ночь, остраняя и освежая поэтическую традицию.
Неожиданные связи устанавливаются не только между соседями (вроде локтей и уключин),но и между далекими противоположностями. Губы, т. е. нечто малое, физически осязаемое и преходящее, приравниваются к звездам, переключая стихотворение в возвышенно-вечный план. Аналогичным образом снимается и противопоставление между пассивностью меланхолической неги и энергией любовной страсти (колотится, роскошь крошеной ромашки и т. п.).
Единство всех этих противоположностей держится на пронизывающей стихотворение (и вообще мир П.) экстатической силе эмоций, причем не обязательно любовных, а творческих в самом широком смысле. Если романтическая традиция ставит в центр личность поэта и его исключительные переживания по поводу любимой, то метонимическое перемешивание отодвигает фигуры влюбленных в подтекст, подчеркивая неуникальность того, что может случиться со всяким.
Принцип смешения крайностей распространяется и на сферу стиля.
Романтическое нагнетание чувства сменяется разговорными интонациями (погоди),а из-за поэтичных губ, груди и сирени выступают более прозаические ключицы, локти, ромашка и славки. Так же строится и богатая звуковая инструментовка стихотворения. Резкие переходы от о в 1-й строке (лОдка — колОтится — сОнной) к последующим и (грудИ — Ивы — навИсли) и у (целУют — уклЮчины) и сопутствующие по-бальмонтовски плавным л диссонантные согласные комплексы тк – тс — ц — ч (лоДКа — КолотиТСя — ЦелуюТ и т. д.) отступают от принятой у символистов более монотонной гладкости в трактовке лирической темы и наглядно передают не только нежность, но и энергию страсти.
Опору на традицию и одновременно отход от нее усматривает Нильссон и в формальной организации стихотворения как целого.
С одной стороны, оно написано обычным для его тематики трехсложным размером (дактилем), лишь слегка утяжеленным (четырех-, а не трех-стопным), и в форме принятой трехстрофной композиции, где начальная строфа рисует сцену в лодке, а две последующие — метафорически ее истолковывают. Однако П. смазывает четкость членений, обрывая и без того фрагментарную сцену уже посередине 3-го стиха, и нарушает гладкость ритма пропусками слогов в 5-м и 6-м стихах и переходом (начиная со II строфы) от чередования мужских и женских окончаний к чередованию мужских и дактилических.
Все это динамизирует и деромантизует структуру, причем ключевую роль играет программная фраза Это ведь может со всяким случиться. Своей нарочитой разговорностью и бедностью инструментовки она стилистически отрезает поэтичную начальную сцену от последующего возвышенного ее осмысления. Но она же служит связующим звеном: своей местоименностью слово это отсылает назад, а серией подхватывающих его повторов сцеплено с продолжением.
В целом отход П. от традиционных вкусов не достигает масштабов пощечины. Скорее, мы имеем дело с очередным обновлением автоматизировавшейся поэтической традиции путем скрещивания ее с разговорной речью и прозаической тематикой. Именно в таком духе «гармоничного остранения», взаимного обогащения возвышенного и повседневного выдержаны и все яркие, но подчиненные теме фонетические эффекты стихотворения и его смелые, но не самоценные, как у имажинистов, образы. Для П. суть поэтической образности в том, чтобы перенести в стихотворение реальную сцену, увиденную в луче пронизывающей мир мощной жизненной силы, — ночное свидание в лодке как воплощение экстатической страсти. Стихотворение типично для раннего П. и, шире, для поэзии 1910-х годов, среди которой оно выделяется здравой умеренностью модернистских новаций.
1. 2. Дальнейший анализ. Выявленные Нильссоном художественные принципы могут быть прослежены в мельчайших клеточках поэтической ткани стихотворения.
Начнем с заголовка, который эмблематически сочетает эллиптичность и метонимический сдвиг (сложа весла < сложа руки),предвещающий перепутывание локтей и уключин, с нейтрализацией оппозиции ′покой/ движение′ (деепричастие сложа устремлено к неназванному сказуемому). Эллиптичные до загадочности заголовки характерны для «Сестры моей жизни» (далее — СМЖ) и для П. вообще. Не является стихотворение и единственным в книге на данную тему, освежение которой явно назревало: ср. ее пародирование уже в «Незнакомке» Блока (скрип уключин и женский визг, надоевшие кривящемуся в небе диску), которое исключало ее серьезное символистское использование (для корреспонденций с очами, очарованным берегом, далью, солнцем и т. п.), — задача, по-новому и успешно решаемая П.
Открывается текст характерным сдвигом сочетаемости: уподобление лодки сердцу основано на приписывании ей глагола (колотится),употребляющегося преимущественно именно с сердцем.[2] Вытеснение сердца и вообще персонажей в подтекст, с передачей их предикатов окружающим предметам, работает на подрыв романтического эгоцентризма, но в то же время и на его экспансию: лирическое “я” оказывается живущим одновременно нигде и везде. Аналогичным образом, эллипсис увеличивает как обыденность интонации, так и ее прерывистость, т. е. эмоциональность.
Перечисление объектов, целуемых ивами, начинается в конце строки, где еще неясно, что оно будет продолжено, так что перенос осознается лишь задним числом; кончается оно тоже метрико-синтаксическим перебоем. Иными словами, оно размещено “как попало” — подобно тому, как кого, что и куда попало целуют при этом ивы.[3]
О, погоди… и последующее всяким Нильссон интерпретирует как снижающий ответ героя на (опущенные в тексте) восторги героини. Возможно и обратное прочтение: героиня противится ласкам, а герой оправдывается. Но в любом случае аргументация держится на ′обыденности/ универсальности′ переживаний. Кстати, отрывочное цитирование реплик встречается в СМЖ неоднократно (восходя, по-видимому, к Анненскому и Маяковскому); характерно также сочетание разговорности с эмоциональной вспышкой (о; императив; врывающаяся в описание прямая речь).
Оборот это ведь значит, тройной анафорой скрепляющий вторую и третью строфы, задает тон возвышенного разглагольствования в жанре «определений» (поэзии, души, творчества), нередком в СМЖ и напоминающем многочисленные романтические образцы (ср. пародийное Это — белее лунного света о ванне у Маяковского). Развивает он и установку на эллипсис: коротенькое это отсылает к подразумеваемому многозначительному антецеденту. Инфинитивная конструкция, присоединенная к это, тоже сочетает общезначимую абстрактность (неопределенное наклонение) с эллиптичностью (опущением субъекта). Переход к обороту в целом исподволь подготовлен в 4-й и 5-й строках, где слово это еще не выступает как определяемое понятие, но уже вводятся категории всеобщности (всяким, все),модальности (может, ср. далее значит)и инфинитива (случиться).Так снижение до обыденного, всякого, возможного оборачивается взлетом к универсальному, общезначимому, необходимо истинному.
Роскошь крошеной ромашки в росе не просто прозаичнее и энергичнее, чем пепел сиреневый; традиционный фольклорный образ травы, примятой любовниками, трактован здесь в духе излюбленного мотива П. ′разрушение, рассорение, рассыпание′, парадоксально выражающего великолепие бытия через бессилие противостоять его напору, а также через щедрую раздачу, растворение в окружающем мире. Правда, в согласии с общей идилличностью темы, этот мотив представлен здесь в мягкой форме и только однажды. Все же содержательный парадокс налицо, и ему вторит стилистический: эффектной парономасией скромная крошеная ромашка сопряжена с северянинско-бальмонтовской роскошью. Раскрошенность ромашки подготовлена рассыпчатостью пепла и предвещает щедрость финального проматывания.
Замену чернового варианта губы и пряди на губы и губы[4] Нильссон объясняет отталкиванием от банальной поэтичности слова пряди и вообще образа женских волос à lа Фет.[5] Добавим к этому пристрастие П. к эмфатическим плюрализациям разного рода, в том числе тавтологическим, и роль подразумеваемого предиката обмениваться (поцелуями),уместного, кстати, и в качестве одного из инвариантных у П. типов контакта. Инвариантом является и ход от поцелуев к звездам, представляющий типовую пару ′земля/небо′ (ср. далее обнять небосвод). Выбор глагола выменивать продиктован, разумеется, установкой на прозаизм, а еще одним достоинством оборота губы и губы, построенного по модели годы и годы, является перекличка с предстоящим в финале счетом на века.
Прочности сцеплений в 8-й строке способствует звуковое сближение на звезды выменивать. Такие уподобления пронизывают все стихотворение (ср. еще обнять — небосвод; руки — вкруг — Геракла; значит — ночи — на щелканье), образуя фонетическую параллель к реальным контактам. Репертуар этих последних включает контакты чисто физические (касание, крошение), эмоциональные (поцелуи, объятья) и социальные (обмен, раздача).
Упоминание о Геракле вносит еще одну возвышенную координату — мифологическую — и украшает текст (в духе поэзии начала века и в частности СМЖ) звучным собственным именем. Точная привязка к легендам о Геракле не очевидна (в свете пары ′земля/небо′ это может быть поединок с Антеем), но важен аспект физической мощи.
Конструкция века напролет характерна сразу в нескольких отношениях. Прежде всего, наречия типа навзрыд, наизусть, впопыхах, сочетающие разговорность с интенсивностью, — один из признаков пастернаковского стиля.[6] Часто они выделяются постановкой под рифму, а также неуклюжим отнесением к существительному (типа нечаянностях впопыхах). Здесь этот оборот (по смыслу сочетающий полет в небесах и соединение с вечностью) подготовлен тяжелой конструкцией в 7-й строке (особенно — полуадвербиальным ромашки в росе)и готовой идиомой ночь напролет (причем ночь просто вытеснена веками в следующую строку). Последняя в свою очередь, мотивирована небрежным коллажем целого набора фразеологических и культурных клише: играть (в карты) ночи напролет, проигрывать в карты целые состояния, проматывать деньги/состояния на женщин.[7] Глаголу проматывать, представляющему в тексте весь этот набор предикатов, приписана не только сумма их значений (прожигание жизни — щедрость — ночные оргии — женщины), но и грамматически не вполне правильная сумма их управлений.
От мещанского выменивать к аристократическому проматывать нарастает как щедрость контакта, так и его романтическая приподнятость, и даже сдвиг сочетаемости: если объектом выменивания были недосягаемые, но все же материальные звезды, то проматывание оперирует уже с бестелесными абстракциями — ночами и щелканьем славок.
Венчающий структуру сдвиг от ночей к векам ставит «Сложа весла» в ряд стихов, говоря в пастернаковских терминах, о контакте временного с вечным, а в терминах литературной традиции — на фаустовскую тему остановленного мгновения (не отсюда ли реплика о, погоди?).Соответственно, стихотворение превращается в своего рода грамматическое упражнение на настоящее время, в рамки которого втискивается максимальное разнообразие глагольных категорий: совершенный и несовершенный вид, инфинитив, императив, модальность; значения продолженности, обыкновения, общего закона, ближайшего будущего и перфектности (нависли).Так растягивание момента получает прямое грамматическое выражение.
Для темы замершего мгновения естественно также обернуться совмещением жизни и смерти, что и достигается вольной или невольной опорой на лермонтовское «Выхожу один я на дорогу…». П. как бы буквально реализует мечту поэта (адресата СМЖ!) заснуть навеки так, чтобы в груди дремали жизненные силы, — под небесами, звездами и склонившимся деревом, всю ночь слушая песни о любви. Разумеется, в соответствии с экстатической радостью бытия действительно мрачные мотивы «оригинала» опускаются — раннего П. смерть интересует в основном как риторическая изнанка жизни, а «Сложа весла» особенно идиллично. В нем отсутствуют даже такие характерные для П. риторические контрасты к великолепию, как боль, насилие, грязь, зловещее, отвергнутая любовь, так что ′низкий′ полюс представлен разве что разговорностью ряда выражений, крошеной ромашкой и малостью губ.
1. 3. Структура в целом. В различных планах текста просматривается единая логика развития.[8] Пространственная траектория, постепенно расширяясь (как круги на воде), захватывает сердце — лодку — водную гладь — прибрежные ивы — сирень и ромашки в саду/поле — звезды — небосвод — античную мифологию — вечность – абстракции/поэзию (щелканье славок, предвещаемое песней в 5-м стихе). Параллельно нарастает и значимость типов контакта: чисто физические и любовные взаимодействия сменяются социальными (проматыванием). Возрастает и символичность тропов: к метонимиям и сдвигам сочетаемости присоединяются сравнения-дефиниции. В метрическом плане, начиная со II строфы удлиняются нечетные строки, а в плане рифмовки происходит расширение вокализма: в первой строфе все рифмы на и, во второй на е, а в третьей на о и а.
С максимальной отдачей использован синтаксис, в целом скорее бедный (предложения не выходят за пределы строф, гипотаксис отсутствует — нет даже обособленных оборотов, переносы и инверсии немногочисленны). Предложения удлиняются от строфы к строфе и каждая кончается восклицанием. В каком-то смысле рекордной является IIстрофа с предложением длиной в три строки, ибо в III строфе можно видеть как одно предложение в 4 строки, так и два предложения по 2 строки. Разрастание сопровождается регуляризацией: переносы, дробящие Iстрофу (вторя метонимической фрагментарности и задавая импульс дальнейшему движению), потом исчезают.
Увеличивается и сложность синтаксиса — как мощность предикатов, так и их иерархия. В I строфе у глаголов по 1-2 зависимых, во II по 2-3, а в IIIуже 4, причем II строфа опять выделяется — длиннейшей именной группой (во всю 7-ю строку) и затянутой на три строки инверсией глагола выменивать. Максимальным приближением к гипотаксису оказывается конструкция «глагол плюс инфинитив».
Она как бы вырастает из элиптичного склеивания сказуемых во 2-й строке: у нависли опущено дополнение, а у целуют — подлежащее. Скромно появившись в 4-й строке, инфинитив затем как бы перенимает (у целуют строфы) управление тремя однородными дополнениями (выменивать — пепел, роскошь, губы); а в III строфе практически выступают уже три однородных инфинитива (обнять, сплести, проматывать),управляемые личным глаголом (значит).Кстати, принцип тройственности, повышающий цельность структуры, осуществлен и еще в ряде отношений (трехсложный размер, трехстрофная композиция, 3 восклицательных знака, 3 разных это, тройная анафора, по 3 предложения в первой и второй строфах).
Что касается силы предикатов, то возрастает не только число их валентностей, но и их активность. В I строфе внешний мир (ивы) фигурально представлен воздействующим на героев, а в последующих строфах герои обнимают весь мир. Этот контрастный поворот скреплен и замаскирован последовательно выдержанной безличностью людей и постепенностью переходов (опущенный объект во 2-й строке — объект всяким в4-й — субъект все при полувозвратном тешатся в 5-й — опущенные субъекты последующих инфинитивов). Начинается же эта серия активным по смыслу, но возвратным по форме, непереходным колотится, содержащим, как в зародыше, и мир (лодку), и людей (сердце). Кстати, залоговое и валентное разнообразие глаголов (колотится — нависли — тешатся — случиться — обнять — выменивать)воплощает уже знакомый нам принцип «в малом – многое».
Таким образом, в разных планах структуры налицо последовательное разрастание, вторящее пастернаковской теме единства всего малого и великого. При этом прочность организации не устраняет импрессионистической и кубистической смазанности картины, а контрапунктно с ней взаимодействует: ср. выше об эллипсисах, метонимиях, сдвигах сочетаемости, парономасиях и других средствах создания эффекта непрерывного ′перетекания′.
Отметим сходные приемы в сфере синтаксиса и композиции. Например, слабость однородных присоединений, приходящихся на строкоразделы, чем задерживается правильное восприятие конструкций. Эффект, подобный отмеченному во 2-й строке, есть и в 6-й, где он усилен благодаря омонимии именительного-винительного падежей слова пепел и инверсии управляющего им инфинитива. То же в 9-й строке, где обманчивое впечатление замкнутости наводится аналогией с полными предложениями-строчками, открывающими предыдущие строфы. Синтаксическая неоднозначность применена и в 11-й строке (века — прямое дополнение?), где она наложена на сочетаемостное, морфологическое и фонетическое плетение (века напролет ночи на щелканье)и как бы удвоена (два аккузатива, века и ночи, каждый в своей синтаксической роли). На несколько иной технике построено перетекание функций предлога в (в груди — в ключицы и т. п. — в песне — в росе)и местоимения это. В более широком композиционном масштабе перетекание связывает любовную сцену I строфы с ее последующим осмыслением: несмотря на перескок в философский план, продолжается накапливание деталей реального антуража — губ, примятых цветов, сплетенных объятий, пения птиц.
1. 4. Тема и глубинное решение. Идеальное изложение «порождающего» разбора должно вести от темы через глубинное решение (ГР) к глубинной и далее поверхностной структуре (ГС, ПС). Но в этом первом разборе, восходящем к работам Нильссона, мы пошли традиционным путем: от вглядывания в текст к констатации особенностей его структуры и далее к формулировке темы. Теперь, однако, мы позволим себе вернуться к «порождающей» схеме и наметить движение от темы к глубинному решению.
На уровне темы общепастернаковский мир предстает в виде своих наиболее абстрактных инвариантов. В предметной сфере это ′единство, контакт всего со всем′ и ′великолепная мощь′ бытия; в сфере стиля — установка на экстатическую до затрудненности речь и на фрагментацию, смещение и перемешивание ее компонентов (лирического субъекта и изображаемого; возвышенного и обыденного); а суть интертекстуальной позиции П. в гармоничном (без негативности à lа Маяковский) синтезе футуристического отталкивания от традиции с ее продолжением. Реализациями центральных тем служат более конкретные общепастернаковские мотивы и их комбинации, многие из которых фигурировали в разборе и должны найти свое место в формулировках ГР и ГС.
Предметная тема раннего П. — незамутненный восторг перед бытием — даже когда локальная тема стихотворения сугубо негативна (′разлука′, ′болезнь′, ′смерть′). Стилистически ему соответствует повышенная эмоциональность, прерывистость, затрудненность речи, вплоть до косноязычия. В интертекстуальном плане это период создания глубоко индивидуального стиля — путем максимального отталкивания от «других» (особенно от Маяковского) и оригинального совмещения стилей, в частности, футуристической усложненности и демократичности — с пряными северянинизмами, а учебы у классиков (Лермонтова, Пушкина) — с их модернистским переписыванием. Эти тематические установки реализуются через более конкретные инварианты периода: ′миг/вечность′, ′определение′, ′восклицательность′, ′вариации на традиционные темы′ и др. Наконец, локальная тема стихотворения складывается из предметного компонента ′ночное свидание′, стилистической ориентации на сравнительную простоту (в отличие, скажем, от “Степи” или “Заместительницы”) и интертекстуальной задачи освежения ′лодочного′ жанра.
Глубинное решение призвано собрать разнородные тематические элементы вокруг некого центрального конфликта и наметить способы его медиации. Одни элементы (идилличность, ночь, миг, стилистическая скромность, традиционный нежный колорит лодочной темы и различные проявления пастернаковского ′малого′ полюса) тяготеют к построению, ограниченному определенными рамками; другие (великолепие, усиленное в СМЖ до экстаза) — к густому заполнению и переполнению рамок. Ввиду общей установки на гармоничность, оппозиция ′малое, рамки/ великое, экстаз′, противопоставвление скорее риторическое, чем ценностное, оказывается центральной. Поэтому в фокус ГР попадают следующие конструктивные задачи:
— придать идиллии интересность путем ее максимальной интенсификации и остранения (в частности, снятия оппозиций ′я/мир′, ′незначительное, всякое/ универсальное, великое′ и ′разговорное/приподнятое′);
— освежить традицию путем постановки одних ее элементов (отрывочных импрессионистических зарисовок) на службу ′малому′, а других (романтико-символистической метафорики) на службу ′великолепию′, скрепляя те и другие футуристическими приемами письма (метонимией, эллипсисом, сдвигами сочетаемости).
Принцип насыщения великолепием всего малого выражается с одной стороны, в соединении этих двух полюсов длинной и нарастающей к концу цепью медиаций, а с другой, в их совмещении в каждом звене этой цепи, начиная с самого первого: вместо банального хода от нежного листочка к мировым огромностям, ГР задает структуру bigbang’a– порождающего вселенную взрыва бесконечно малой массы, исполненной бесконечно большой энергии. Стилистически эта структура, естественно выдерживается в тонах густоты и мощи, а не отточенного изящества. Ее опорными мотивами становятся: лодка, бьющаяся, как сердце; расходящиеся по воде круги; определение малого как великого; конструкция со словом это и его неопределенным антецедентом; метонимия-эллипсис, позволяющая начать нарастание с “отрицательной” величины (неназванных любовников).
Итак, получаем следующее ГР:
определение по схеме: импрессионистическое малое («я», «здесь», миг, сердце/лодка), полное энергии (биения), метонимически приписываемой «не-я» (окружающему), это метафорически и есть романтико-символистское великое (мир, вечность, абстракции). Определение строится как экстатическое, но в определенных рамках, концентрическое расширение, интенсивно проецируемое на многообразный предметный и стилистический материал и в каждой точке скрепленное местными совмещениями малого с великим (в частности, всякого со всеобщим и разговорного с приподнятым) и техникой эллипсиса и сочетаемостного сдвига.
Дальнейшее движение к ГС и ПС имеет дело с образами и эффектами, неформально рассмотренными выше, а потому может быть опущено.
2. “Мне хочется домой, в огромность…” (1931)[9]
| I | Мне хочется домой, в огромность Квартиры, наводящей грусть. Войду, сниму пальто, опомнюсь, Огнями улиц озарюсь. |
| II | Перегородок тонкоребрость Пройду насквозь, пройду, как свет. Пройду, как образ входит в образ И как предмет сечет предмет. |
| III | Пускай пожизненность задачи, Врастающей в заветы дней, Зовется жизнию сидячей, — И по такой, грущу по ней. |
| IV | Опять знакомостью напева Пахну’т деревья и дома. Опять направо и налево Пойдет хозяйничать зима. |
| V | Опять к обеду на прогулке Наступит темень, просто страсть. Опять научит переулки Охулки на руки не класть. |
| VI | Опять повалят с неба взятки, Опять укроет к утру вихрь Осин подследственных десятки Сукном сугробов снеговых. |
| VII | Опять опавшей сердца мышцей Услышу и вложу в слова, Как ты ползешь и как дымишься, Встаешь и строишься, Москва. |
| VIII | И я приму тебя, как упряжь, Тех ради будущих безумств, Что ты, как стих, меня зазубришь, Как быль, запомнишь наизусть. |
2. 1. Тема. Как всякий пастернаковский текст, этот 3-й отрывок из “Волн” воплощает центральные предметные инварианты П. — ′великолепие′ и ′единство′; они представлены значительностью малого (например, огромностью квартиры) и вообще интенсивностью изображенных состояний, маршрутом ′дом — внешний мир′, и ситуациями освещения, окутывания, обмена и др. А в стилистическом и интертекстуальном планах по-прежнему налицо тяжелый синтаксис, парономасии, сдвиги сочетаемости и мощная энергия речи, синтезирующей поэтическую традицию с кубо-футуризмом (предмет сечет предмет)и разговорной стихией.
Но инварианты второго периода несут перемены. Если тема раннего П. была лишь гиперболическим проявлением его общих установок,[10] то теперь в центре внимания ценностный конфликт — проблема приятия/неприятия социалистической нови — и его амбивалентное разрешение в характерных общепастернаковских терминах.
‘Адаптация к новому’ предстает в стихах П. начала 30-х годов как:
добровольное, даже радостное подчинение силе; надежда на добрые перемены, слияние с коллективом; опора на историю, выдача нового за привычное старое; изображение социализма как еще одной нематериальной абстракции или как части пейзажа.
Все эти ходы органично укоренены в соответствующих инвариантах П.:
ошеломленности великолепием выше сил; оптимизме, в частности, восторге перед преображениями; установке на единство, контакт; приравнивании скромного настоящего великому прошлому или будущему (по принципу «опять – новое», ср. в другом стихотворении: Это поистине новое чудо, Это, как прежде, снова весна);и, наконец, в пристрастии как к абстрактным категориям, так и к переводу их в удобные для контакта пространственные.
Приятие нового, однако, подспудно саботируется. Происходит оно на компромиссной, «абстрактно-гуманистической», основе, да и самый тон его далеко не безогляден. Бросаются в глаза:
некатегоричность утверждений (тексты полны предположений, вопросов, оговорок, сослагательных наклонений); обилие негативных образов (боли, страха, обмана, тоски, житейских трудностей, голода, холода, болезни, смерти); тревога за пусть субъективное, косное, отсталое, но “свое”.
Эти методы саботажа тоже базируются на пастернаковских инвариантах: некатегоричность — на яркой условности, которой теперь придается прямой ценностный смысл, ставящий утверждаемое новое под сомнение; негативность — на в прошлом риторической, а теперь настойчиво буквализуемой изнанке великолепия; забота о «своем» — на пастернаковском субъективизме и неповторимости его голоса.
В стилистическом плане приятие нового выражается в установке на понятность — уменьшается затрудненность синтаксиса, словаря, тропов, и четче выступает из метонимического фона человеческое «я». Эта демократизация стиля (заложенная в общепастернаковском принципе — творить поэзию из прозы) сопровождается, однако, саботажем — культивированием бедного до сухости, «суконного» языка, которое вновь возвращает П. к косноязычию, на этот раз бюрократическому, демонстрирующему скрипучую трудность официального резонерства. Еще одно новшество — принцип амбивалентно-политизированной речи, как эзоповской, открыто декларирующей, а подспудно подрывающей приятие социализма, так и просто недогматической, по-своему обращающейся с идеологическими штампами.
Интертекстуальные инварианты периода связаны с предметными и стилистическими. Это: отталкивание от собственной ранней манеры, курс на сближение с более массовой советской эстетикой и переориентация с романтиков типа Лермонтова и Фета на Пушкина.
Локальная тема стихотворения складывается из предметной тоски по дому, стилистической установки на амбивалентность, иконически вторящей амбивалентной тематике и стилистике периода, и интертекстуальной задачи дать новый – «гармонично-двойственный» — ответ на традиционный вопрос о назначении и судьбе поэта (в жанре «Пророка», «Памятника» и т. п.).
2. 2. Глубинное решение. Исходя из локальной темы, посмотрим, как заключенные в ней противоречия разыгрываются и разрешаются, преломляясь сквозь призму инвариантных мотивов П. Предметный мотив ′ностальгии по дому′ естественно вовлекает такие общепастернаковские ситуации, как единство малого и обыденного с огромным и исключительным, маршрут дом — внешний мир и цепь повторений, связывающих прошлое и будущее; а из репертуара второго периода — выдачу социализма за пейзаж и другие великие сущности, нового за старое, не-своего за свое; наконец, само возвращение с каникул на Кавказе подразумевает переход от пышной южной природы к московскому холоду и будням, негативность которых, буквализуясь, нагнетает чувства боли, страха, несвободы и т. п.
Медиаторами между домом (желанным, «своим», целью регрессии) и социализмом (негативным, чужим, будущим) и служат указанные инварианты. Одни из них (маршрут, цепь, переход) представляют собой готовые линейные сцепления, другие (единство, выдача за, буквализация) — готовые взаимоналожения полюсов. Результатом являются основные медиационные находки ГР:
маршрут дом — пейзаж, т. е. социализм; цепь повторений старое, свое — новое, чужое; переход к трудному, холодному, зато своему; низкое и негативное в общепастернаковском смысле, т. е. малое, обыденное, разговорное, подавляющее, — как буквально низкое, т. е. злое, скучное, бюрократическое, принудительное, болезненное; дом — единство малого, тесного, обыденного и великого, огромного, исключительного; социализм — единство трудного, будничного, обыденного и великого, вечного, исключительного.
Интертекстуальная тема судьбы поэта ставит на обсуждение «пушкинские» мотивы поэзии как преодоления смерти, творческой мощи, высшего служения и высшей свободы, а с другой стороны — наступания песне на горло в духе Маяковского. К ним присоединяются представления П. о поэзии как встрече восторга с обиходом, а о поэте как о скромном и пассивном органе, ошеломляемом мощными впечатлениями бытия, а также проблематика амбивалентного поворота к народу и социализму.
Выбирается некий средний путь:
творческая игра сил ставится (в отличие от ранней вариации на тему «Пророка» — «Мчались звезды…») на службу обществу (а не Богу, как у Пушкина), но в духе не грубого (само)принуждения (как у Маяковского), а «гармоничного», «добровольно-принудительного», подчинения силе — ′приятия′, сочетающего прежнюю страдательность и новую активность.
Еще одна находка — сцепление метапоэтического комплекса с ностальгическим:
ритуальная смерть пророка ассоциируется с мотивами боли, холода и т. п.; трудности московских будней — с обыденным трудом поэтического служения; бытовая теснота и социалистическая несвобода — с творческой дисциплиной; желанность послеканикулярного возвращения домой (и даже к школьным занятиям) — с желанностью творчества (даже во славу социализма).
А как воплощается амбивалентная медиация стилистически? В лексическом плане установка на doublespeak, с одной стороны, размывает фразеологию советских лозунгов, подмешивая общечеловеческие ассоциации (ср. врастание в заветы дней),а с другой, позволяет намекнуть на ужасы социализма, растворив их в общепастернаковских мотивах ′сказочно-зловещего′ (ср. подследственные осины).[11] В синтаксическом плане, диалектике вдохновения и дисциплины, простора и тесноты соответствует тенденция одновременно к разрастанию и сдерживанию, а в плане рифмовки — игра с открытостью/закрытостью слогов и гласных.
В плане конструктивных решений, установка на двойственность предрасполагает к одновременному контрапунктному развитию противоположных полюсов. В основу кладется фигура «Приятие по инерции», соответствующая теме ′приятия чужого путем выдачи его за свое′ и состоящая в постепенном подмешивании к ′своему, привычному′ все больших доз ′чужого, нового′.[12]
Эта фигура контрапунктно удваивается во всех узловых точках: элемент ′неприемлемости′ вносится даже в самое начало, а к концу нарастают оба полюса, ′приятие′ — в открытую, ′неприемлемость′ — подспудно; в этих удвоениях находят себе применение выработанные ранее многочисленные амбивалентные мотивы. Наконец, фигура “Приятия” проводится через разнообразный материал трех основных сфер, что одновременно повышает ее убедительность и еще более маскирует ее.
Минуя ряд промежуточных шагов, получаем следующее ГР:
приятие нового, чужого, принудительного поэтического служения социализму по инерции контрапунктного движения к нему от дома как чего-то своего, привычного, желанного, хотя и с элементом негативности. Контрапункт опирается на разнообразные амбивалентные совмещения приемлемости и неприемлемости: маршрут дом — пейзаж социализма; цепь повторений свое = новое; переход к негативному, зато своему; малое, обыденное = негативное = поэтическое служение = восторг; малое = тесное = несвобода = подчинение силе = единство с великим; эзоповское размывание высоких и низких сторон социализма; игра расширений/сужений в синтаксисе и рифмовке.
2. 3. Глубинная структура. Сформулируем основные параметры ГС стихотворения.
Программа инерционно-контрапунктного приятия определяет большую длину текста, постепенное нарастание пропаганды нового, введение негативности в ′свое′ в начале и ее подспудное нагнетание к концу. Формируется трехфазная спираль, сочетающая расширение с неявным кольцевым замыканием. Общий тонус движется к разрастанию и просветлению, а затем к трудному синтезу светлого и тяжелого, открытости и замкнутости, причем контрапункт полюсов чувствуется все время. Изобилуют переклички между фазами; в частности, сходны контуры их членений, чем усиливается эффект длительности, многочленности. Две первые фазы (по 3 строфы) начинаются на спокойной ноте, следует подъем, а затем дисциплинирующее сдерживание. В последней фазе начальная строфа как бы опущена, так что на высокой ноте происходит перехлест из фазы в фазу.
В пространственном плане трехфазная схема принимает вид маршрута: «квартира — городской пейзаж – социализм». Квартира сочетает ′свое′ с ′негативной теснотой′, город служит связующим звеном между ′своим′ и ′ чужим′, а социализм знаменует выход за пределы пространства в мир великих абстракций. Контрапункт же выражается в незаметном развитии ′стесненности′.
Во временном плане, инерционный разгон создается описанием привычных действий в будущем времени, а также их растягиванием (при реальной непродолжительности) на большую часть текста — в противовес комканию в короткой концовке действительно трудных и протяженных событий.[13] Растягивание возрастает во 2-й фазе, где (по контрасту с готовящимся прыжком в будущее), монотонность происходящего подчеркивается применением пастернаковского мотива ′опять новое′ и техники повторов.
В эмоционально-психологическом плане, привыкание к неприятному достигается настойчивым сопряжением ′своего, знакомого′ с негативным. В 1-й фазе, вместо естественной тоски по веселью, поэт грустит по грусти, а во второй наслаждается знакомостью мрачного зимнего пейзажа, чем и подготавливается амбивалентное приятие тягот социализма в третьей.
Символизирующий эти тяготы образ упряжи возникает на пересечении мотивов несвободы, служения, пространственной стесненности и метапоэтической переклички с Маяковским, еще недавно требовавшим: Сильнейшими узами музу ввяжите, как лошадь, — в воз повседневности! (“На что жалуетесь?”, 1929). С безбрежной будущностью упряжь контрапунктно скрепляется пастернаковским мотивом ′обмена′, приобретающим черты бюрократически заверенного контракта.[14]
Этому финальному синтезу — двухстороннему взаимодействию поэта и мира, предпосылаются тезис — подвижность и творческая активность четко выраженного «я» (1-я фаза) и антитезис — безлично-пассивная подверженность внешним впечатлениям (2-я фаза). Оба состояния — типично ′свои′, пастернаковские, причем первое отражает “эго-футуристаческие” мотивы, а второе — деромантизирующее растворение в окружающем; их совмещением и обеспечивается новый синтез. Кстати, его двойственность подготовлена, среди прочего, парадоксальным сочетанием подвижности — с квартирной теснотой,[15] а пассивности — с выходом наружу.
Обратимся к стилистической сфере. Проекцией монотонно-обыденного пейзажа и повторяющихся опять в план ритма становится скопление во 2-й фазе «обычных» (и к тому же средне-советских) форм 4-ст. ямба (IV и I форм).[16] В синтаксическом плане приятию будущего вторит разрастание предложений (от 2 до 4 строк) и их усложнение — от простых и сочиненных структур к сложно-подчиненным. При этом программная 3-я фаза знаменательно сочетает размах с иерархичностью и тяжестью, монотонная 2-я строится на элементарном сочинении, а сдавленной моторике 1-й соответствует тенденция к инверсиям и развитию подчинения, не выходящего, однако, за рамки паратаксиса.
На фонетику рифм возложен подрыв бравурного финала. Сначала она следует за общим расширением преспективы: рифмы на закрытые гласные в плотно закрытых слогах ( -омность, -усть) сменяются более открытыми (на е и а). Однако в конце, через закрытое, но драматичное и (аккомпанирующее поэтическому восторгу перед новой Москвой) совершается переход к закрытому и мрачному у в закрытых слогах. Финальный аккорд из четырех у возвращает нас к тесноте квартиры (грусть — наизусть),акцентируя не безбрежность будущего, а давление упряжи.
2. 4. Поверхностная структура. Открывающее стихотворение слово Мне это субъект в 1-м лице, но не подлежащее, — компромисс активности и пассивности, поддержанный далее эллипсисом глагола движения (? поехать), эллипсисом я — подлежащего, обилием возвратных, непереходных и пассивных форм, эллипсисом объектов (войду) и постепенным переходом к 3-му лицу, готовящим вторую фазу (где 1-е лицо — лишь подразумеваемый наблюдатель) и финал (с его контактом на яты). Фонетически мне открывает ряд перекличек, захватывающих строку (огроМНость), строфу (опоМНюсь), фазу (дНЕй и по НЕй) и стихотворение (запоМНишь). Выражение Мне хочется домой в целом несет коннотации детства, используемые далее для нагружения школьными обязанностями (задачи; зазубришь… наизусть).
Хочется задает настоящее время, обрамляющее первую фазу, но устремлено в будущее, которое вскоре и овладевает глаголами. Фонетически хочется начинает ряд ударных о 1-й строки и зубных тс, проходящих через весь текст (в частности, благодаря обилию тяжелых существительных огромность — тонкоребрость — пожизненность — знакомостью — безумств). Огромность квартиры совмещает эту тяжесть и выделенность паузами с неокончательностью остановок, чем подчеркивается амбивалентная связь тесноты и простора, движения и сдерживания, подхватываемая далее парадоксальным контактом с улицами путем входа в дом.
Если первая строфа посвящена “человеческим” переживаниям поэта, то вторая — творческим. Этот автопортрет П.-кубиста причудливо сочетает поэтический восторг, — выраженный сравнением ′я = свет′, разрастанием синтаксиса, инверсией (в 1-й строке)[17] и редкими и “громкими” формами ямба (шестой и второй; первой), — с теснотой квартиры и болезненностью ребер. Приравнивание коммунальных перегородок к грудной клетке поэта, а его “световых” метаний к рентгеновским лучам дополнительно мотивировано ассоциациями с рассечением (!) груди пушкинского пророка, особенно в контексте сердечной боли в седьмой строфе (перекликающейся со второй и по линии проницаемости мира для поэта, ср. пройду, как свет и услышу, как ты ползешь с И внял я… в “Пророке”).
В третьей строфе “я” примиряется с творческой дисциплиной, сквозь которую проглядывает социалистическая (благодаря лексической игре с пожизненностью, задачами, врастанием, заветами и т. п.). Так в малом масштабе проигрывается трехчленная логика стихотворения в целом. С одной стороны, динамика падает (исчезают глаголы движения, возвращается грусть), конструкции тяжелеют; с другой, сохраняется активность глаголов, увеличивается длина и прогрессивность связей (единое предложение со сложным, почти подчинительным союзом Пускай… И по такой…). Несимметричное синтаксическое членение 3:1 иконически вторит риторике строфы (“несмотря на внушительные аргументы против — я все равно за”) и подчеркивает как новый уровень размаха, так и резкость остановки, отмечающей границу фазы, чему способствуют и кольцевые связи с первой строфой (1-е л., наст, вр., грусть).
Суть второй фазы — в совмещении привычного пейзажа с мрачным подтекстом, с одной стороны, и с подготовкой финального экстаза, с другой. Четвертая строфа открывается спокойной (синтаксис прозрачен и прост), ясной (видимость хорошая) и привлекательной (знакомый напев) картиной. Синестезия вида — запаха — звука развивает тему поэзии (из второй-третьей строф) и предвосхищает аналогичный эффект седьмой строфы. Негативные мотивы представлены безобидной, но все же хозяйничающей зимой, которой предстоит развиться в темень и страсть переулков и далее в подавляющие бюрократические коннотации слов повалят, взятки, укроет, вихрь, подследственных, сукном и упряжь. Фонетически и синтаксически это наиболее “светлая” строфа. Симметрия членений (2 + 2) подчеркнута анафорой опять и параллельностью структур (подлежащие в конце), а на будущую сложность намекают лишь инфинитивный оборот (пойдет хозяйничать) и потенциально трехместная инструментальная конструкция (пахнёт — кто, чем, на кого). Ритмически это сплошная “средняя” четвертая форма ямба.
В пятой строфе наступают сумерки, чреватые, несмотря на близость дома и обеда, страстями (христовыми? — ср. заветы в третьей и приму как… постриг? в седьмой строфе), чему вторят внезапное возвращение мрачного у, лексическая темнота оборота с охулкой, его зловещая семантика и синтаксическая затрудненность (четырехместное научит не класть — кто, кого, что, на что). В то же время возрастает масштаб конструкций и единство строфы (благодаря общности подлежащего темень). ритм интенсифицируется введением первой формы, как раз в строке о темени и страсти.
В шестой строфе за вечером приходят ночь и утро, а к горизонтальному плану добавляется вертикальный — с неба валит снег. Таким образом, охват пространства и времени завершается, хотя и в рамках привычного суточного цикла. Линия разрастаниясдерживания продолжается в виде пастернаковского мотива обволакивания (укроет).
В синтаксисе этому соответствует удлинение (предложение во всю строфу) и развитие управления до полной трехместности даже без помощи инфинитива: укроет — кто, кого, чем (да еще и когда — к у тру, прибавленное из к обеду (на прогулке)). Этому аккомпанируют: одновременное расширение и обострение рифменного вокализма (взятки, вихрь), добавление второго полноударного стиха и одновременное расширение и учащение ритма анафорических членений (1+3, ср. третью строфу). Сталкивание Опять…Опять в соседних строках поддержано эффектным фонетическим повтором в первой из них (Опять повалят…), постепенно подготовленным в четвертой и пятой строфах (ОПять… наПева Пахнут…; ОПять наПраво… Пойдет…; ОПять к ОБеду…). Этот упор на П продолжает цепь, идущую из первой фазы (Перегородок — Пройду — Пускай), перехлестывающую в третью (Опять опавшей…) и завершающуюся словами о приятии упряжи.
Оркестрованный всеми этими средствами подъем и обеспечивает въезд из обыденности в будущее по инерции. Хотя, как мы помним, третья фаза начинается “с середины”, граница обозначена четко — возвращением темы творчества, категорий субъекта в 1-м лице и причастия, выходом за пределы пространства, переходом к реальному будущему времени и к гипотаксису. Но она и нарушена, что достигается продолжением пейзажных мотивов (…строишься, Москва), анафор и начальных повторов (Опять опавшей…), синтаксического разрастания (следует сложно-подчиненное предложение во всю строфу), рифмовки на а и и (мышцей, слова) и серии “громких” зачинов (в I форме ямба).
Образ опавшей сердца мышцы как органа воспевания встающей Москвы складывается из пастернаковского мотива ошеломленного бессилия, ассоциаций с “Пророком” (Как труп в пустыне я лежал …… “Восстань и внемли… “) и перекличек с тонкоребростью второй строфы, синестезией четвертой, страстями пятой и вертикальной композицией шестой: поэт как бы продолжает падать вместе со снегом (или под него), но и “восстает” вместе с вырастанием Москвы. Лексика стройки, возможно, почерпнута у Маяковского, ср....видеть,как… вторая Москва вскипает и строится… Восторженно видеть… пыхтенье машин и пыли пласты… Качнется, встанет, подтянется сонница… (“Две Москвы”, 1926). Пассивность поэта по сравнению с Москвой уравновешена его синтаксическим доминированием (неназванное я — субъект главного предложения, а ты — придаточного) и направленностью действия (услышу) от я к ты (строишься непереходно). Членение 2 + 2нормально, связность повышена (единое предложение). Ритмически здесь (и в финальной строфе) возвращаются редкие формы ямба, но в конечных строках наступает успокоение (IV форма).
В восьмой строфе впервые появляется слово я (замыкая связь с Мне начала). Оно продолжает доминировать над придаточностью ты, но их взаимность подчеркнута симметрией управлений (я приму тебя — ты меня зазубришь). Связность максимальная, а членение двойственно: формально 2 + 2, а фактически 1+3, ибо союзом, вводящим придаточное, открывается уже 2-я строка. Союз этот, кстати, очень сложен, находится на грани грамматической правильности (тех ради… что), архаично-бюрократичен и дополнительно утяжелен инверсией — образец скрипучего, но и восторженно неправильного “плохого стиля”, призванного скрепить хоздоговор упряжи с безумствами. >Безумства напоминают о поэтических восторгах второй строфы, проецируемых теперь в вечность, а приятие упряжи венчает сдерживающие мотивы усидчивости и укрытия сукном сугробов. Программное и парономастическое И я приму тебя, как упряжь собирает также важнейшие фонетические лейтмотивы: в нем слышатся сниму, перегородок тонкоребрость, и по такой грущу, укроет к утру, сугробов, услышу и вложу и многие другие ключевые слова текста.
3. “Ветер” (1954)[18]
| 5 | Я кончился, а ты жива. И ветер, жалуясь и плача, Раскачивает лес и дачу. Не каждую сосну отдельно, A полностью все дерева Со всею далью беспредельной, Как парусников кузова На глади бухты корабельной. |
| 10 | И это не из удальства Или из ярости бесцельной, А чтоб в тоске найти слова Тебе для песни колыбельной. |
3. 1. Тема. Пастернак безошибочно узнается и здесь. В предметной сфере — по мотивам дрожи (раскачивает),полноты (полностью, со всею)и зарождения поэзии в природе;, по маршруту дом — лес – даль; и ряду других манифестаций единства и великолепия мира. Налицо и стилистические установки на связность и мощь речевого потока, техника эллипсиса, парономасии (далью — беспредельной — на глади — удальства),и метонимические подмены людей элементами пейзажа (ветром, сосной). В интертекстуальной сфере очевидна ориентация на традицию, но не отталкивание от нее.
Последнее, конечно, связано с особенностями позднего П. В предметном плане это период философского сосредоточения на «последних вопросах», христианской мудрости и спокойствии. Стиль П. наконец достигает обещанной неслыханной простоты за счет хаотичной импровизационности, исступленной энергии, переносов и т. п.[19] Главной интертекстуальной задачей становится отказ от собственного «стиля до 1940 года».
Локальная тема “Ветра” это, в предметном плане, осмысление смерти, а в стилистическом — установка на прозрачную иконичность. Интертекстуально «Ветер», 8-е из «Стихотворений Юрия Живаго», отсылает, прежде всего, к роману (в котором служит загробным ответом Живаго на плач Лары),[20] а через его посредство — к темам ′жития′, ′смерти поэта′ и ′искусства поэзии′.
3. 2. Глубинное решение. В мире П. смерть вообще не трагична; а в духе позднего периода — ее приятие и преодоление под знаком мудрого утешения. В сочетании с житийностью и великолепием, в частности, чудесным контактом с будущим,[21] это дает ′чудо бессмертия′ — продолжения жизни после смерти. Утешение ищется по-пастернаковски в отрицании отдельности и в контакте с пейзажем, в частности, в переносном растворении в макромире, которое способствует как увеличению масштабов страдания, так и отодвиганию его вдаль и разрешению. Это приятие смерти на утешительном лоне природы естественно приводит за собой (особенно в контексте романа) мотивы любви и материнства, а с ними трактовку смерти как возвращения в детство, колыбель, сон, утробу матери.
В стилистическую сферу чудо загробности проецируется в виде установки на эффектные турдефорсы, уравновешиваемую, однако, тенденцией к покою и простоте. Одно такое чудо состоит в том, что утешение по поводу смерти героя приходит в виде его собственной речи из-за гроба в настоящем времени. Эффект усилен полным отсутствием мотивировок,[22] но и умерен — устранением личности говорящего и временных форм из большей части текста. Еще один фокус — установка на вялое перетекание, воплощающая чудо ′продолжения (жизни после смерти)′, ′не-отдельности (от мира)′. В синтаксисе вялое перетекание дает единый, хотя и с полуостановками, период, а в области рифмовки — единую, нерегулярно членящуюся строфу. Третий турдефорс воплощает парадоксальную трактовку утешения одновременно как ′великолепия, чуда,… жизни′ и как ′успокоения, простоты,… смерти′ и состоит в том, что синтаксическая сложность ставится на службу телеологичности, порядку, прояснению.[23]
Намеченные установки кристаллизуются далее в тесную связку узловых мотивов. В предметной сфере это образы ′колыбельной′ и ′ветра′. Колыбельная совмещает мотивы сна, жизни-детства-материнства, утешения и искусства поэзии, а ветер это одновременно представитель макромира и естественный троп для мятущейся души героя и для страданий героини (у П. ветер часто выступает как заинтересованный партнер человека). Ветер и колыбельная связываются в единую конструкцию с помощью общих для них элементов колебательного движения и напевания (опирающихся на инварианты П. — ′великолепную дрожь′ и ′ приравнивание стихий и словесности, в частности, рождение слов из шума стихий′).
Проекция комплекса сон-колыбельная-ветер-раскачивание в сферу стиля определяет установку на усыпляющую монотонность и укачивающую двухчастность. Прояснение формы стихотворения становится иконическим аккомпанементом к обретению ветром успокоительных слов колыбельной. А в основу структуры кладется эллипсис, способствующий вялому перетеканию, совмещению синтаксической сложности с ясностью, и впечатлению пустоты, иконически воплощающему как смерть героя, так и образ его заместителя — ветра.
Итак,
смерть «я» — поэта и «святого», героя «Доктора Живаго», — преодолевается чудом продолжения его поэтического присутствия и единением героини со вселенной, в частности, с ветром, который, представляя ее душу и душу умершего поэта, утешает ее, напевая колыбельную, чему вторит двухчастность членений текста. Единый эллиптический период дробится паузами; синтаксическая и строфическая структура одновременно усложняется и проясняется в связи с упоминанием колыбельной. Изложение ведется в вялом, монотонном, «простом» ключе, тропы ненавязчивы, эффекты приглушены.
3. 3. Глубинная структура. Установки на преодоление-прояснение, колебательность и чудо подсказывают желательность композиционного поворота (от негативного начала к еще более негативной середине и позитивному концу),[24] а принцип вялого перетекания — желательность сглаживания острых углов. Соответственно, нарастанию негативности в среднем звене придан характер чисто внешней экспансии, незаполненной просторности, совмещающей общуюприглушенность эффектов с иконическим отображением смерти-ветра-эллипсиса и обеспечением плавного (а не зигзагообразного) перехода к финалу. Кстати, позитивность последнего ослаблена — ибо он связан с успокоением, а не подъемом. А по контрасту с этой трактовкой позитивности как ясности, осмысленности, негативность начала представлена как хаотичность. Но в соответствии с установкой на ясность композиция открывается чем-то вроде пролога (1-я строка) и акцентирует симметрию начала и конца. В то же время принцип перетекания смазывает композиционные членения. Так складывается несколько вялая диалектическая кривая, проецируемая далее в различные планы ГС.
Сюжетно поворот от горя и хаотичности к утешению и прояснению основан на переосмыслении ветра: напеванию и убаюкиванию предпосланы вой и раскачивание. Последнее направляет сюжет по излюбленной П. траектории дом — макромир — дом. При движении «туда» интенсивные отрицательные эмоции оборачиваются экстенсивным физическим и пространственным успехом, чем подготавливается успех духовного разрешения на пути «обратно». Сужение перспективы в финале соответствует мотиву успокоения и принципу симметрии.
Симметрично и обрамление сюжета мотивами ′смерть (героя)′ — ′усыпление (героини)′,[25] а также обрамление бесшумного раскачивания далей озвученными мотивами плача и песни. Помимо симметрии, установка на прояснение определяет также выбор в качестве сюжетного поворота так наз. «узнавания»: ветер не столько сначала бесцельно воет, а потом целесообразно напевает, сколько изображается и осмысляется в таком порядке;[26] это хорошо согласуется и с ′ внешним′ характером среднего эпизода.
Диалектическая кривая прослеживается и в движении тропов. Сначала появляются полу-метафорические ветер и сосна. 2-я фаза построена на эксплицитном сравнении (дерева + даль = парусники + гладь), но развертывается оно в сугубо физической сфере (′внешняя экспансия′). И лишь в финале впрямую вводится метафора ′ветер = певец колыбельной′, связывающая физический мир с духовным.
Вялое единство синтаксического периода строится на комбинации сочинения и эллипсиса.
На вялость работают: низкая связность всякого паратаксиса; регрессивность большинства сочинительных присоединений; слабые предложные управления; отсутствие переносов. В соответствии с колебательностью преобладают двусоставные структуры (сочиненные союзами а, и, не — а, или и предлогами со и на).
Турдефорс простоты/сложности проявляется в развитии от простых и слабых связей к более сложным и сильным:
от непереходных глаголов через переходные к четырехвалентному (найти — кто, что, кому, для чего) и от сочинения к подчинению, в частности, от простых, нераспространенных предложений через распространенные к (почти) сложно-подчиненному (чтоб).
Диалектический изгиб и симметрия вносятся
наличием в первой фазе элементов гипотаксиса (деепричастий), тогда как во второй фазе он выражен внешне (словом как), но по сути сведен на нет (глагол опущен, как — полусоюз-полупредлог); на середину приходится и основной эллипсис — синтаксическая проекция пустого простора.
Среди прочих проекций композиционного контура отметим движение коннекторов (от скрыто-причинных через пространственные и далее к причинным и целевым), видовременных форм (сов. прош. — опущенное несов. наст. — сов. в значении будущего) и лиц (я — ветер — тебе).
Строфически турдефорс дробности/связности и простоты/сложности воплощен в практически двухрифменной цепи, не распадающейся на правильные строфы, а как бы формирующейся на глазах читателя, демонстрируя рождение поэзии из хаоса и ветра.
Рифмовка диалектически движется
от напряженного дробного беспорядка и смежных рифм (аВВС) через цепь более широких монотонных двучленных присоединений (чередующихся рифм: (…С)аСаС) к ненавязчивому закреплению наметившейся строфы (аСаС в финале). Это «четверостишие», вместе с выкристаллизовавшейся сложной, но четкой синтаксической структурой, наложенной на него по схеме (1+1)+2, служит иконическим эквивалентом сюжетного ′прояснения′. Срединное разрастание выражается в длине первого строфически законченного отрезка (8 строк). Вялое присоединение поддержано несовпадением синтаксических и строфических членений (в концах 1, 3 и 5). Поворотной оказывается 4-я строка, где рифменный хаос достигает предела, но и впервые задается заключительная рифма.
Метрический эффект сложной простоты достигается
приданием «обычному» 4-ст. ямбу (без редких или «громких» форм — VII, VIII и I) значительного разнообразия. Ритмически все строки разные (кроме 6-й и 8-й), различаясь либо формой ямба (местом ударений), либо положением словоразделов.
Диалектическая кривая строится следующим образом.
Первая фаза характеризуется трехударностью с сильным акцентом на 1-й стопе и множеством «активных» — мужских — словоразделов (ты, лес, сосну).В середине устанавливается более широкий и ровный двухударный ритм с «колебательным» чередованием двух форм ямба (V и VI) и без мужских словоразделов, причем происходит как бы борьба между ударностью 1-й и 2-й стопы (т. е. между модернистским и традиционным – «пушкинским» — ритмом). В конце возвращаются мужские словоразделы (тоске, найти, тебе)и трехударность; но теперь сильнее акцентируется 2-я стопа, а трехударность происходит на интонационном спаде и читается как заключительное замедление.
В фонетическом плане вялое единство реализовано монотонным вокализмом и типичным для П., но ненавязчивым плетением от слова к слову и от строки к строке, а колебательность проявляется в парных повторах внутри строк и чередовании фонетически сходных строк (особенно — «зубных» 4, 6, 8, и «губных» 5, 7, 9). На этом фоне трехфазный контур выделяется не очень четко. В начале а преобладает над е, в середине они чередуются равноправно, а в конце побеждает е, т. е. самый «спокойный» гласный. Симметрия начала и конца обозначена присутствием и (а ты — найти).
3. 4. Деталь поверхностной структуры. По соображениям места мы ограничимся рассмотрением одного фрагмента ПС — критической 4-й строки. Располагаясь на стыке двух фаз, она образует первый поворот в композиции стихотворения: внешне к худшему (экспансия горя), а по сути дела, к лучшему (слиянию с миром), предвещая финальный поворот к утешению. Ее центральный эффект — создание двойственного образа ′(не) отдельности′.
Отдельность прямо выражена специальным словом (поставленным к тому же под рифму), а также единственным в стихотворении крупным планом: вся строка это практически одна именная группа в единственном числе, обозначающая единичный физический объект. Выделена строка и строфически — это пик хаоса и совершенно новая – «отдельная»! — рифма, причем, в нарушение принципа альтернанса, это вторая женская рифма подряд; наконец, это первая рифма не на а. Синтаксически, 4-я строка отделена от предыдущей точкой и обрамлена самым интенсивным и контрастным коннектором не…, а. В плане ритма она выделена наличием трех одинаково сильных ударений (в том числе на редко акцентируемой 3-й стопе, где оно приходится как раз на сосну), равномерно разделенных паузами (в отличие от строк 2, 3) и падающих на три разных гласных (а – у – е). Наконец, отдельность подчеркнута и интертекстуально — намеком на гейневско-лермонтовскую сосну (которая стоит одиноко, дремлет, качаясь, и видит сны о далекой пальме).
Однако, интертекст, как это часто бывает, служит лишь отправной точкой для переосмысления[27] : отдельности предстоит быть поглощенной единством. Лексически она снимается отрицанием, а также включением в серию кванторов всеобщности, тянущихся от не каждую отдельно через всю 2-ю фазу (полностью — все — всею — беспредельной).Синтаксически строка открывает длинное (в 5 строк) перечисление, причем конструкция не…, а создает прогрессивное тяготение, регрессивно поддержанное хиазмом (каждую сосну — отдельно — полностью — все дерева),способствующим цельности. Строфически, холостая рифма (на -ельн-) создает сильное ожидание, реализация которого пронизывает и завершает всю дальнейшую рифмовку.
Интеграция 4-й строки в композиционное единство целого подчеркнута также перекличкой конструкций, оформляющих оба композиционных поворота по схеме не…, а...,и перекличкой тропов (′сосна=героиня′; ′ветер=певец колыбельной′). Связана 4-я строка и с предыдущими: грамматически это эллиптичное распространение прямых дополнений к раскачивает; метрически она примыкает к предыдущим строкам (трехударность, как в 1–3; женское окончание, как в 2–3; III форма, как в 3); а фонетически — заключает цепь повторов 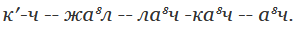
4. Заключение
Как на рембрандтовских автопортретах разных лет, в трех стихотворениях П. несомненно и единство облика, и изменение черт. Во всех трех взаимодействуют «я» и «ты» на фоне и под покровительством огромного мира; люди как бы прячутся за окружающим; происходит движение от малого/ из дома/ от людей наружу к пейзажу и далее к великим абстракциям; оборотной стороной активности и приятия мира служат мотивы пассивности, утробной регрессии, боли и смерти; и неизменно присутствует поэзия — называемая по имени и цитируемая из классиков.
Традиция при этом и продолжается, и обновляется. Устранение человека из пейзажа и в то же время их единение достигаются путем их смелого, но тщательно мотивированного, «кубо-импрессионистического» взаимоналожения, дающего такие образы, как ′лодка/сердце/грудь/озеро′, ′квартира/ грудная клетка/ сердце/ упряжь′, ′герой/ героиня/ сосна/ ветер/ раскачиваемый пейзаж′. Аналогично применение эллипсиса, сочетающего эффект отсутствия и эмоциональность с разговорностью, и временных сдвигов, естественно подводящих к вечности. Синтаксис неуклонно разрастается по ходу текста, но держится в умеренных рамках. То же в метрике и рифмовке — оригинальность создается искусным варьированием правильных форм. Композиция также строится по четкой схеме — трехчастной, с общим расширением в середине и тем или иным элементом симметричного замыкания в конце. Инструментовка, в частности техника парономасий, вторит общему единству и великолепию мира, а движение рифм — логике сюжета.
Очевидна и эволюция. Незамутненный экстаз сменяется приятием общественной дисциплины, а затем и смерти. «Я» выходит из своего метонимического укрытия на советский форум, чтобы затем раствориться в ветре и потусторонности, а «ты» превращается из любимой в индустриализующуюся Москву и снова в женщину — утешаемую из-за гроба. Густо насыщенный контактами и интенсивностью мир принимает мрачный колорит — и снова просветляется, но заодно и редеет, пустеет, затихает. Смерть из чисто риторической изнанки жизни становится условием второго рождения поэта (в современности и памяти поколений), а затем и основной реальностью бытия. Ключевой троп эволюционирует от сердца, радостно пульсирующего в центре вселенной, к сердцу, мечущемуся в упряжи перегородок/новостроек, и далее к душе, сливающейся с ветром и мировым духом. Чудеса со временем выражаются сначала в растягивании настоящего продолженного до вечности, затем — в подмене настоящего грамматическим будущим ради облегчения скачка в грядущую неизвестность, и наконец, в спокойном взгляде на настоящее из загробного будущего. Трехчастная композиция от полной открытости переходит к контрапунктному разрастанию/сжатию, а затем и к явному (и притом позитивному) замыканию. Сбивчивый эллипсис почти исчезает при трезвом свете социализма и возвращается как носитель надмирной разреженности. Остранение традиции сменяется сознательной опорой на нее и на советский культурный контекст, а к концу — впадением в неслыханную простоту, резко отличную от раннего косноязычия. Таковы, говоря языком Пастернака, его три дня в трех мирах, три ландшафта, три древние драмы с трех сцен.
ЛИТЕРАТУРА
Гаспаров М. Л. 1974. Современный русский стих. М.: Наука.
Дейви 1965 — Donald Davie. The poems of Dr. Zhivago/. Transl. and comm. Donald Davie. New York: Manchester UP.
Женетт 1980 — Gerard Genette. Narrative discourse. An essay in method. Ithaca: CornellUP.
Жолковский А. К. 1976. К описанию одного типа семиотических систем: поэтический мир как система инвариантов// Семиотика и информатика 7: 27-61.
Жолковский А. К. 1978. Место окна в поэтическом мире Пастернака // Russian literature 6: 1-38.
Жолковский А. К. 1980а. Инварианты и структура поэтического текста: Пастернак . Пастернак// Жолковский и Щеглов 1980а: 205-244.
Жолковский А. К. 1980б. Тема и вариации: к сопоставительному описанию поэтических миров Пастернака и Окуджавы // Жолковский и Щеглов 1980а: 61-86.
Жолковский А. К. 1980в. «Обстоятельства великолепия»:об одной пастернаковской части речи // То Honour Jeanne van der Eng/ Eds. Willem Weststeijn et al. Amsterdam: Slavic Seminar, 157-158.
ЖолковскийА. К. 1983. Поэзия и грамматика пастернаковского “Ветра” // Russianliterature 14: 241-285.
Жолковский 1984 — Alexander Zholkovsky. Themes and texts. Toward a poetics of expressiveness . Ithaca and London: Cornell UP.
Жолковский 1985а– Alexander Zholkovsky. The ‘sinister’ in the poetic world of Pasternak // International journal of Slavic linguistics and poetics 29: 109-131.
Жолковский А. К. 1985б. Механизмы второго рождения. О стихотворении Пастернака «Мне хочется домой, в огромность…»// Синтаксис 14: 77-97.
Жолковский А. К. и Ю. К. Щеглов 1974. К описанию смысла связного текста, IV. Приемы выразительности, ч. 2, Препринты ПГЭПЛ, ИРЯ АН СССР, 49.
Жолковский А. К. и Ю. К. Щеглов 1975. К понятиям «тема» и «поэтический мир» // Труды по знаковым системам 7 (1975): 143-167.
Жолковский А. К. и Ю. К. Щеглов 1980а. Поэтика выразительности . Сборник статей. Wien: Wiener slawistischer Almanach. Sonderband II.
Жолковский А. К. и Ю. К. Щеглов 1980б. «Исповедь» Архипоэта Кельнского: глубинная и поверхностная структуры на службе амбивалентной темы// Жолковский и Щеглов 1980а: 145-204.
Жолковский А. К. и Ю. К. Щеглов 1981а. О приеме выразительности ОТКАЗ// Slavica hierosolymitana 5-6: 109-136.
Лежнев 1987 (1926). Борис Пастернак// Он же. О литературе. Статьи/ Сост. Г. А. Белая. М.: Советский писатель. С. 184-202.
Ливингстон 1978 – AngelaLivingstone. Pasternak’slastpoetry // Эрлих 1978: 166-175
Лотман Ю. М. 1969. Стихотворения раннегоПастернака и некоторые вопросы структурного изучения текста// Труды по знаковым системам, 4, 206-238.
Нильссон 1978 (1959) — Nils Ake Nilsson. Life as ecstasy and sacrifice. Two poems by Boris Pasternak // Эрлих 1978: 51-67.
Оверстрит 1925 — H. A. Overstreet. Influencing human behavior. New York: W. W. Norton.
Пастернак Борис 1965. Стихотворения и поэмы. М.: Советский писатель.
Пастернак Борис 1991 (1936). Выступление на III пленуме правления Союза писателей СССР в Минске (= О скромности и смелости// Литературная газета, 24 февраля 1936 г.)// Он же. Собрание сочинений в пяти томах. Сост. и комм. Е. В. Пастернак и К. М. Поливанов. М.: Художественная литература. Т. 4. С. 633-639.
Риффатерр 1978 – Michael Riffaterre. Semiotics of poetry. Bloomington and London: University of Indiana Press.
Синявский Андрей 1965. Поэзия Пастернака // Пастернак 1965: 9-62.
Чэтман 1978 — Seymour Chatman. Story and discourse. Narrative structure in fiction and film. Ithaca and London: Cornell UP.
Эрлихсост. 1978 — Pasternak. A collection of critical essays/ Ed. Victor Erlich. Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall.
ПРИМЕЧАНИЯ
Впервые: В кн. А. К. Жолковский, Ю. К. Щеглов. Мир автора и структура текста . Статьи о русской литературе/ Сост. и ред. А. К. Жолковский. Tenafly, NJ: Hermitage, 1986. С. 228-254.
[1] Мы имеем в виду пастернаковедческий канон: Якобсон 1969 (1935) — Нильссон 1978 (1959) — Синявский 1965 — Лотман 1969; см. тж. Жолковский 1976, 1978, 1980а, 1984: 65-68, 135-158.
[2] Ср. тот же эффект в “Как у них”: У окуня ли екнут плавники; см. Жолковский 1984: 145.
[3] Импровизационная хаотичность перечислений нередка у П., ср. начало “Петербурга”.
[4] См. Пастернак 1965: 634.
[5] Ср., однако, И чуб касался чудной челки, тоже в СМЖ.
[6] Об этих “обстоятельствах великолепия” см. Жолковский 1980в.
[7] Выражение состоянья проматывать засвидетельствовано в одном из вариантов, см. Пастернак 1965: 635.
[8] Вопреки представлениям о бесформенности «чисто ассоциативной» композиции у раннего П. (в духе Лежнев 1987).
[9] См. тж. Жолковский 1985б.
[10] Отчасти это следствие нашего упрощенного решения приблизить общепастернаковский конструкт к раннему П., а не сделать его равноудаленным от трех периодов.
[11] Об этом инварианте П. см. Жолковский 1985а.
[12] Эта выразительная фигура, основанная на приеме ПРЕДВЕСТИЕ, была выявлена Эйзенштейном (V: 498-99) в его изложении разработанной теоретиками рекламы «техники утвердительных ответов» (см. Оверстрит: 16-17).
[13] Эти временные сдвиги, типа исследуемых в нарративистике (см. Женетт 1980; Чэтман 1978), захватывают не только предметную, но и стилистическую сферу. А комкание лозунгов в конце — еще одно проявление одновременно адаптации и ее подрыва; о сходном эффекте скоропалительной идеологической перестройки в стихотворении средневекового латинского автора Архипииты см. Жолковский и Щеглов 1980б.
[14] Это одна из вариаций на излюбленную П. тему заложника вечности в плену у времени; ср. тж. этот “обмен” с вымениванием/проматыванием в «Сложа весла».
[15] Как заключенность в тесном помещении, так и стесненное, но интенсивное движение — частые у П. манифестации ‘великолепия’, ср. Кто это, гадает, глаза мне рюмит Тюремной людской дремой? (1922); Кура ползет атакой газовою К Арагве, сдавленной горами (1931); Дай запру я твою красоту В темном тереме стихотворенья (1956).
[16] Стихотворение обнаруживает также отклонение от типичного для П. модернистского (в духе XVIII в.) акцентирования 1-ой стопы 4-ст. ямба в сторону традиционного (в духе XIX в.) акцентирования 2-й стопы (об этих тенденциях см. Гаспаров: 88-95). Так реализуется готовность П. «писать плохо», чуть ли не в стиле Демьяна Бедного (ср. Пастернак 1936).
[17] Эта инверсия, в сочетании с другими средствами создает в первых строках эффект ‘пронзающей устремленности’, о чем см. Жолковский 1980а: 234-235).
[18] Подробный разбор см. в Жолковский 1983.
[19] О «вялости» у позднего П. см. Ливингстон 1978.
[20] Об этом см. Дейви: 86.
[21] Это инвариант П., см. Жолковский 1984: 67 сл.
[22] Например, сном, как в лермонтовском «Сне» и в «Августе» П.; или — размышлениями о будущем, как у Пушкина в «Андрее Шенье» и «Песенке Мери» и у П. в «Свидании» П. (о последнем см. Жолковский 1980б: 84-85).
[23] А не чрезмерности и импровизационному хаосу, как у раннего П. (например, даже в сравнительно умеренном «Сложа весла» и тем более в экстатической «Заместительнице» (см. Жолковский 1984: 228 cл.), или примирению с дисциплиной, как в «Мне хочется…»).
[24] Такова схема ВНЕЗАПНОГО ПОВОРОТА (см. Жолковский и Щеглов 1974, 1981).
[25] Эта симметрия подчеркнута парадоксальностью движения от смерти в начале к детству, подразумеваемому колыбельной, в конце (о приеме КОНТРАСТА с тождеством см. Жолковский и Щеглов1974).
[26] Описанное уже Аристотелем узнавание это «ментальная» разновидность ВНЕЗАПНОГО ПОВОРОТА — в отличие от «событийной» (см. Жолковский и Щеглов 1974, 1981).
[27] Согласно Риффатерру (1978), обращение (conversion) того или иного интертекстуального образца — универсалия поэтической структуры.