Александр Жолковский
Памяти Б.Л. Пастернака и Р.О. Якобсона
1. Введение: проблема описания
Вклад Р.О. Якобсона в поэтику широко признан и продолжает обсуждаться на разных языках и с различных позиций.[1] Я уже однажды (тоже на страницах RussianLiterature) принял участие в этой дискуссии, предложив альтернативный разбор одного из testcases якобсоновской поэтики – «Я вас любил…» Пушкина.[2] Настоящая статья – попытка в том же роде.
Для анализа я выбрал восьмое из «Стихотворений Юрия Живаго» – «Ветер». Якобсон о «Ветре» не писал, но ему принадлежит одна из основополагающих пастернаковедческих работ (1979b [11935]), а само стихотворение – типичный «образчик монополии грамматических приемов». Я постараюсь констатировать в «Ветре» всю его богатейшую поэзию грамматики, применяя, однако, иной формат описания.
Ветер
1 Я кончился, а ты жива.
2 И ветер, жалуясь и плача,
3 Раскачивает лес и дачу.
4 Не каждую сосну отдельно,
5 А полностью все дерева
6 Со всею далью беспредельной,
7 Как парусников кузова
8 На глади бухты корабельной.
9 И это не из удальства
10 Или из ярости бесцельной,
11 А чтоб в тоске найти слова
12 Тебе для песни колыбельной.
В стихотворении 12 строк, неслыханная простота и естественность которых, казалось бы, делают ересью любую попытку разбора, тем более структурного, и обрекают исследователя на полную немоту. Чтобы не спугнуть[3] чуткий мираж этой простоты, хотелось бы вместо развернутого анализа ограничиться инициалами его основных разделов. Однако при всей желательности простого описания, сложное обладает большей объясняющей силой: оно не только более адекватно моделируемому объекту, но и, в конечном счете, понятнее людям.
Сложный разбор короткого стихотворения не может не претендовать на полноту. Чем объясняется исключительная органичность стихотворения, его единое дыхание, мудрость, «пушкинская легкость»? Чем достигнут «горацианский» эффект успокоения к концу? Как связан «Ветер» с сюжетом романа? с остальными стихами доктора Живаго? с ‘ветром’, ‘деревами’, и прочими сходными мотивами в других текстах Пастернака (далее везде П.)? В чем его типично пастернаковские черты и черты именно позднего стиля поэта? и т.п. Lastbutnotleast, какую роль в общем художественном эффекте играет поэзия грамматики, а также ритма, строфики, рифмовки, фонетики?
Ответы на эти вопросы по необходимости будут связаны друг с другом. Так, в синтаксической структуре «Ветра» бросаются в глаза обилие и нерегулярность остановок, преобладание «слабых» двучленных присоединений (без прогрессивных тяготений), совпадение основных членений со строкоразделами (без переносов). Какова равнодействующая этих синтаксических особенностей? Впечатление такое, будто каждая новая порция текста добавляется asanafterthought. Что это – изолированный синтаксический эффект или ему есть параллели в других областях структуры? Например, не читается ли отсутствие в «Ветре» четкой строфики как раздробленность на отдельные строчки и предложения? А в таком случае, нельзя ли усмотреть в этом совокупном формальном эффекте иконическую связь с тематикой стихотворения, начинающегося словами о конце? Не найдется ли, далее, аналогичных структурных параллелей (в ритме, рифмовке, фонетике) и для упомянутой выше синтаксической двучленности, и если да, то каковы будут соответствующие тематические параллели?
Обращаясь далее от сходств к контрастам, невозможно не заметить сразу же, что установке на дробность и паузы противостоит удивительная связность текста, образующего если не одно предложение, то, во всяком случае, единый период. Это наблюдение опять-таки ведет исследователя к возможным параллелям в структурной, а затем и в содержательной организации текста, который пишется автором после смерти и таким образом представляет собой anafterthought и в глубоком символическом смысле.
В связи с единством, преодолевающим отдельность и смерть, возникает очередная серия вопросов: например, о типе медиации между этими полюсами, характеризующейся некой «вялостью» – в отличие от сопоставимых художественных решений у раннего П.;[4] об оригинальном совмещении общего успокоения к концу с одновременным синтаксическим и строфическим развитием; об особенностях данной трактовки ‘единства и великолепия’ – центральных тем П.» – и, в частности, привычного маршрута «за окно»; об уникальной у П. загробной точке зрения и ее пушкинских ассоциациях; и мн. др.
Двигаясь подобным образом от детали к детали, от конструкции к конструкции, от одного стилистического эффекта к другому и далее от этих эффектов к их тематической интерпретации, критик надеется в конце концов обговорить все существенные свойства стихотворения. На мой взгляд, однако, сложная иерархия сведений о структуре поэтического текста (добываемых таким или любым иным способом) нуждается в универсальном формате описания, который бы ориентировал исследователя на полное и систематическое моделирование объекта, обладающее значительной объясняющей силой. Один возможный формат такого рода был предложен в цикле работ по «поэтике выразительности», в частности в недавней специальной статье.[5] Важнейший принцип этого подхода – движение от самых общих черт структуры ко все более специфическим деталям текста, имитирующее логику «вывода» текста из темы [6] и отражающее постепенное сужение круга тех (реальных или потенциальных) текстов, которые задаются последовательными уровнями структуры.
Принципиально при этом различение категорий трех типов: уровней структуры, ее планов и явления инвариантности мотивов. Уровни образуют четырехступенчатую иерархию: тема → глубинное решение → композиция → поверхностная структура. На каждом из уровней структура обычно предстает спроецированной в три основных плана: – предметный («житейский»), стилистический (план языковых и литературных кодов и конвенций) и интертекстуальный. Но внутри каждого из них многочисленны дальнейшие подразделения; так, стилистический план поэзии распадается на синтаксис, метро-ритм, строфику, фонетику и т.д. Наконец, инвариантные, т.е. характерные для данного автора, мотивы, пронизывают все уровни и планы его текстов, взаимодействуя при этом с общелитературными, а также локальными (т.е. специфическими для отдельных текстов) мотивами.[7]
Неверно говорить о тематике и сюжете как о «высших» уровнях поэтической структуры, а о грамматике и фонетике как о «низших»: это не иерархические уровни, а главные планы.[8] Вместе с тем иерархия – уровней! – не только имеет место, но и сказывается на степени их разности в различных планах. Глубинные уровни сосредотачиваются чаще на «содержательных» решениях, а более …остные – на «формальных». Это, а также техничность … поверхностной структуры, делают ее довольно …кой. Но в силу тех же причин главным образом и-на отражает уникальное, часто непереводимое, более художественной ткани текста. Тем не менее важно то, что уже на уровне темы и глубинного решения на формироваться неповторимая структурная – предметно-стилистическая – конфигурация текста, его «доминанта», вступают в действие идиосинкратические мотивы.
II. Глубинная структура
Здесь речь пойдет о трех абстрактных уровнях текста. Тема формулирует центральный message стихотворения в его «до-художественной» форме – как набор нескольких основных тематических компонентов. Глубинное решение конкретизирует и размножает их, а затем собирает в первичную …тельную конструкцию. Композиция далее развертывает эту конструкцию в линейную последовательность и называет основные вехи ее предметной, стилистической и текстуальной конкретизации. Я буду двигаться в этом порядке, позволяя себе, однако, забегать вперед – подсказывать читателю, каким реальным деталям текста соответствуют формулируемые абстрактные решения. Подчеркну, что такой порядок – лишь определенный способ констатации реальных художественных эффектов текста, принятый к тому же далеко не самым жестким образом.
1. Тема
Тема складывается из локальных и инвариантных высказываний о ‘жизни’, о ‘стиле’ или о других ‘текстах’ может быть схематично представлена в виде табл. 1.
Таблица 1. Тема «Ветра»
|
специфичность
|
|
|
|
|
смерть |
П: единство и великолепие; поздний П: мудрость, спокойствие |
|
|
максимально полная проекция предметной темы |
П: связность и мощь; поздний П: простота, ясность |
|
интертекст |
житие поэта (роман «Доктор Живаго»);? |
? |
Формулировка темы следует принципу «минимальности». С иерархической точки зрения, важно чтобы тема была четко абстрагирована от выразительных решений, которым предстоит быть «сочиненными», в ходе вывода; поэтому ни ‘ветра’, ни ‘колыбельной’, ни ‘двухчастности’, и т. п. «еще» нет. С точки зрения системных отношений между шестью разными компонентами темы, важно избежать дублирования: возможные связи между ними должны быть эксплицитно выведены позднее. Поэтому, скажем, ![]() лок, предм можно свести к ‘смерти’, возложив выработку ее ‘преодоления’ на взаимодействие с
лок, предм можно свести к ‘смерти’, возложив выработку ее ‘преодоления’ на взаимодействие с ![]() инв, предм.[9] Аналогичным образом, в
инв, предм.[9] Аналогичным образом, в ![]() лок, стил достаточно зафиксировать самый факт последовательной постановки стиля на службу предметной теме, имея в виду породить грамматические и иные турдефорсы стихотворения на пересечении ряда предметных мотивов (‘смерть’, ‘преодоление’, ‘единство’, ‘чудо’ и нек. др.).[10] (Разумеется, полная взаимонезависимость тематических компонентов разных типов – недостижимый идеал; так, содержимое клетки
лок, стил достаточно зафиксировать самый факт последовательной постановки стиля на службу предметной теме, имея в виду породить грамматические и иные турдефорсы стихотворения на пересечении ряда предметных мотивов (‘смерть’, ‘преодоление’, ‘единство’, ‘чудо’ и нек. др.).[10] (Разумеется, полная взаимонезависимость тематических компонентов разных типов – недостижимый идеал; так, содержимое клетки  инв, стил есть точный стилистический эквивалент соответствующей предметной клетки).
инв, стил есть точный стилистический эквивалент соответствующей предметной клетки).
В формулировке интертекстуальной темы я ограничился констатацией того очевидного факта, что «Ветер» отсылает нас сначала к циклу стихов Юрия Живаго, с его отчетливо христианской тематикой, затем – к ситуациям романа, во многом агиографического, и лишь опосредованно – к поэзии и правде вообще.[11] Других интертекстуальных тем в стихотворении как будто нет. Перекличка же со стихами самого П. носит характер не столько цитации, сколько типологического сходства,[12],отраженного в ![]() инв, предм и
инв, предм и ![]() инв, стил.
инв, стил.
2. Глубинное решение
На пути к ГР элементы темы вступают во взаимодействие друг с другом, принимая в результате множество более конкретных обликов. Особенно важны взаимодействия  лок с
лок с  инв и
инв и  предм с
предм с  стил, отражающие привлечение соответственно инвариантных мотивов автора для разрешения «локальных проблем» и стилистических средств для выполнения принятых решений. Вторая из этих задач (особенно актуальная в случае «Ветра») ориентирует на поиск предметных мотивов, перспективных с точки зрения дальнейшей иконической проекции в сферу стиля.
стил, отражающие привлечение соответственно инвариантных мотивов автора для разрешения «локальных проблем» и стилистических средств для выполнения принятых решений. Вторая из этих задач (особенно актуальная в случае «Ветра») ориентирует на поиск предметных мотивов, перспективных с точки зрения дальнейшей иконической проекции в сферу стиля.
а. Предметный план. В поэтическом мире П., центральными темами которого являются ‘принятие великолепного мира’ и ‘единство малого и большого, человека и природы, дома и внешнего мира’ (см. Прим. 4), ‘смерть’ не может остаться непреодоленной. Многие стихи П., в том числе «до 1940 года», написаны в ключе ‘преодоления тяжелого – зимы, грусти, разлуки, болезни, смерти’, не говоря уже об экстатическом воспевании боли, усталости, страха и т.п. в безусловно радостных стихах.[13] В частности, у П. есть целый ряд стихов-утешений – «Стихи мои бегом, бегом…», «Еще не умолкнул упрек…», «Безвременно умершему». Кроме того, для П. всегда была характерна готовность к морализированию, извлечению гуманно-христианских выводов из рисуемых им картин ‘великолепия и единства’.[14]
Очевидна, однако, принадлежность «Ветра» к позднему периоду, для которого, и в частности для стихов из романа, характерен не столько ‘экстаз’, сколько ‘просветленная мудрость’[15] (ср. «На Страстной», «Земля», «Магдалина»), что и отражено в нашей  инв, предм. Итак: приятие/преодоление смерти под знаком мудрости, утешения, успокоения’. (При этом ‘успокоение’ – мотив, предрасполагающий к определенному типу стилистических решений).
инв, предм. Итак: приятие/преодоление смерти под знаком мудрости, утешения, успокоения’. (При этом ‘успокоение’ – мотив, предрасполагающий к определенному типу стилистических решений).
С другой стороны, соединение тем ‘смерть’, ‘житие святого’ и ‘великолепие’ ориентирует на ‘преодоление смерти в духе чуда – бессмертия, загробности, посмертности’. Всякого рода ‘преувеличения’, ‘нарушения формы’, ‘экстатические чрезмерности’ и в частности чудеса’, – естественные манифестации пастернаковского великолепия’. В обращении с законами времени для мира характерны два основных типа ‘чудес’ – ‘мгновенное, быстрее времени», действие гения’ (Петра Великого, Ленина, Христа) и ‘спокойное присутствие поэта в будущем’, ср. ‘В его [Пушкина] устах звучало завтра, / Как на устах иных вчера; В родстве со всем, что есть, у-вперясь, / И знаясь с будущим в быту…; Я вижу… / Всю будущую жизнь на сквозь. / Все до мельчайшей доли сотой / В ней оправдалось и сбылось. Именно этот второй тип ‘чудес о будущем’ (предрасполагающий к игре с грамматическими временами)[16] положен в основу «Ветра».
В контексте ‘единства’ и ‘по-смертности’ ‘преодоление смерти’ принимает форму ‘продолжения (жизни)’ во временном плане и ‘неотдельности (от мира)’ в пространственном. (Оба мотива обладают богатым стилистическим потенциалом). ‘Не-отдельность’, далее, означает ‘обращение за утешением к внешнему миру, пространству, пейзажу’ (ср.: Почерпнут за окном покой / У птиц, у крыш, как у философов). В этом контексте естественно найдется место для различных пастернаковских ‘контактов’, и в частности, для смешанного метафорико-метонимического отождествления с представителями макромира. Образ «неравнодушной природы» (т.е., в конечном счете, ‘ветра’) играет двоякую роль: он работает и на ‘смерть’, вовлекая в ее переживание «весь мир», и на ‘утешение’, отделяя переживание смерти от его непосредственных носителей (героя, героини), делая его более условным, отчужденным, и передоверяя ‘утешение’ благотворным внешним силам.[17]
Весь этот комплекс ‘приятия/преодоления смерти на утешительном фоне природы’, своеобразно совмещающий желание смерти с принципом удовольствия (ср. концовку лермонтовского «Выхожу один я на дорогу…» или пушкинского «Брожу ли я вдоль улиц шумных…»), естественно притягивает (особенно учитывая коллизии «Доктора Живаго») мотивы ‘любви’, ‘материнства’, и ‘детства’, достраивая ситуацию до архетипической ‘смерти как утробной регрессии’.
Кстати, что касается связи с романом, мотивы ‘смерть’ (из  предм) и ‘поэт’ (из
предм) и ‘поэт’ (из  интерт) подсказывают такие жанровые категории, как ‘смерть поэта’ (arspoetica), ‘стихи о поэзии’ (inmemoriam) и т.п. В свою очередь, ‘смерть’, ‘святой’ и ‘мудрость’ предрасполагают к медитативности, ‘любовь’ – к лирическому тону, а ‘природа’ – к пейзажности.
интерт) подсказывают такие жанровые категории, как ‘смерть поэта’ (arspoetica), ‘стихи о поэзии’ (inmemoriam) и т.п. В свою очередь, ‘смерть’, ‘святой’ и ‘мудрость’ предрасполагают к медитативности, ‘любовь’ – к лирическому тону, а ‘природа’ – к пейзажности.
б. Стилистические проекции. Мотив ‘чудо (загробности)’ определяет ориентацию на турдефорсы стиля; она уравновешивается противоположной тенденцией – к ‘успокоению, простоте, ясности, обычности’. Эта последняя установка – на «неслыханную простоту» – соответствующая предметному инварианту П. ‘суть, отрицание шелухи и прикрас’, была [18]впервые программно сформулирована в «Волнах» (1931), доминировала во многих стихах 30-х годов и стала основным принципом зрелого стиля П. В «Ветре» очевидно и отталкивание от экстатического косноязычия ранней лирики, и сохранение сложности, хотя и освоенной по-новому.
При этом, говоря очень схематично, ‘сложность, турдефорсы, чудеса’ служат своего рода стилистическими представителями ‘великолепия и жизни’, а ‘простота, обычность и т.д.’ – представителями ‘смерти’. Иными словами, инвариантный мотив ‘суть, простота’, осуществляет здесь амбивалентную медиацию между ‘жизнью и смертью’, между ‘великолепием’ и его противоположностью.[19]
Одним из главных стилистических «фокусов» стихотворения является уникальный у П. (а возможно и в русской поэзии вообще) мотив ‘загробная речь лирического «я»’ даваемый без каких-либо мотивировок (ср. мотивировку ‘сном’ в «Сне» Лермонтова и «Августе» самого П. и размышлениями о будущем в «Песенке Мери» и «Андрее Шенье» Пушкина и во «Все сбылось» П.). Чудесная медиация между смертью и продолжением жизни заострена до парадокса употреблением настоящего времени, так что будущее в буквальном смысле звучит в устах поэта как прошлое или настоящее (кончился, раскачивает). По сравнению с другими вариациями на эту грамматическую тему (примеры см. выше), «Ветер» заходит дальше всех (ср. еще «Свидание», где буд. вр. в Iстрофе придает дальнейшему повествованию наст. вр. воображаемый характер, тем самым смяградокс).
Итак: ‘утешение по поводу смерти любимого человека Живаго = лирического «я») в виде его собственной из-за гроба’. Эта фантастическая[20] ситуация предрасполагает к эффектным контрастам типа ‘одновременное отсутствие и присутствие рассказчика’ («я» описывает в наст. вр. картину происходящего в момент, когда его нет ),[21] которые. однако, в тексте тщательно уме … чудо загробной речи подано как нечто само собой разумеющееся, поставлено в самое начало текста; количество форм в наст. вр. сведено к минимуму с помощью эллипсисов; «я» фигурирует лишь в 1-м полустишии, и в соответствии с принципом ‘простоты, обыкновенности’ (ср. напротив, эффектную подачу чуда в одном и том стихотворении того же цикла, в «Магдалине I» в стихах).
Еще одно стилистическое чудо служит проекцией ‘продолжения, не-отдельности’ в синтаксический, строфический и др. формальные планы, создавая парадокс ‘связности/дробности’. В синтаксисе это дает ‘единый, но с многочисленными паузами, период,[22] а в схеме рифмовки многократно, но не регулярно, членящуюся единую форму’.[23] Но и этот турдефорс сглажен влиянием ‘на простоты’: паузы преодолеваются ‘вялым перетеканием’, придающим тексту характер afterthought. Таким образом, фокус охвата целого единой конструкцией окажется не выпячен (как в «Когда волнуется желтеющая…» Лермонтова, «Я пришел к тебе с приветом…» или «Заместительнице» самого П.), а затушеван.[24] Характерное для позднего П. сочетание ‘великолепия, неслыханности, сложности’ с ‘простотой, мудростью, успокоением’ определяет общую тональность будущей структуры, в частности, стилистические проекции ‘контакта’, тематические и парономастические приравнивания, трофосинтаксическое и строфическое плетение и т.д.) но-держанный характер. Вообще ‘сложная простота’ диктует экономию средств, их интенсивное, но неброское использование, утонченную поэзию грамматики, технику нюансов и незаметных сдвигов и т.п.[25] Метафоры даются прозрачным подтекстом (такова связь между раскачиванием и колыбельной, героем/героиней и ветром, героиней и сосной) – без характерной для раннего П. опоры наглядную пластичность.[26] В результате, ‘загробная ясность’ предстает как бы менее поразительной, более очевидной, но, значит, и более бесспорной, абсолютной, надмирной.
Подчеркну, в частности, что ‘бессмертие и душа’ представлены более абсолютно по сравнению с их растворением в общем потоке предметов и энергии у раннего П. (ср. раздельность ‘я’ и ‘ветра’ в данном стихотворении и «слитные» конструкции типа мною гонит страницу,[27] лавиной вернулся, носился как дух над водою и т.п.). Это «платоновское» разграничение явлений и сущностей находится в согласии с тоном безапелляционного всезнания (наст. вр. о будущем) и отказом от ‘импровизационного хаоса’ (это не из удальства), характерного для раннего П.[28]
Последнее связано с парадоксальным решением трактовать ‘утешение’ одновременно как ‘великолепие, чудо, турдефорс, …жизнь’ и как ‘успокоение, простоту, незаметность, … смерть» (см. Прим. 19). В результате синтаксическая сложность отмерена в стихотворении очень скупо, и, главное, гипотаксис поставлен на службу ‘телеологичности, порядку, прояснению’ (а не ‘чрезмерности, импровизационности, хаосу’, как часто у раннего П.). Установка на ‘сдержанность утешения’ определяет и выбор таких умеренных средств, как 4-ст. ямб, без переносов; преимущественно чередующаяся рифмовка, открывающаяся мужской и замыкающаяся более «спокойной» женской рифмой; скромный вокалический репертуар (преим. ударные е, а) со «средним» е в конце.
Проявлением той же двоякой установки на ‘чудо и незаметность’, на ‘великолепие и обыденность’, на ‘раннего П. в поздней редакции’ являются также:
– сочетание разговорного тона (эллипсисы; присоединения; неформальный оборот и это… чтоб и т.п.) с возвышенной дикцией (разветвленный период; постпозиция прилагательных; лексика типа деревá, гладь, даль, беспредельный), а также
– балансирование между «типично пастернаковскими» («архаизирующими», в духе XVIII в.) формами ямба с сильным импульсом на 1-й стопе и «типично пушкинскими» формами с сильным импульсом на 2-й стопе.[29]
в. Кристаллизация ГР. Теперь множество наличных компонентов кристаллизуется в единое структурное ядро[30] путем использования готовых объектов и конструкций, несущих сразу по несколько функций.
В предметной сфере двумя важнейшими находками становятся связанные друг с другом образы ‘колыбельной’ и ‘ветра’. ‘Колыбельная’ совмещает мотивы ‘сон’ (который, в свою очередь, является традиционным – и частым у П. – медиатором между ‘жизнью’ и ‘смертью’),[31] ‘детство[32]’, ‘утешение’ и ‘поэзия’. Этот последний элемент существенен в том смысле, что, как поэтический жанр, ‘колыбельная песня’ способна служить выражению темы ‘рефлексивные стихи о сочинении данных стихов’, ср. концовку фетовского «Я пришел к тебе с приветом…» (…Что не знаю я чтó буду / Петь, но только песня зреет), а у П. – «Про эти стихи», «Февраль! Достать чернил и плакать…», «Ты здесь, мы в воздухе одном…» и т.п.
Выбор ‘ветра’ также удачен сразу в нескольких отношениях. Прежде всего, это естественный метонимически-метафорический природный медиатор между умершим «я» и оплакивающей его женщиной: круг готовых поэтических ассоциаций ветра позволяет трактовать его и как мятущуюся отлетевшую душу героя и как воплощение страданий героини. Далее, ‘ветер’ – излюбленный пастернаковский образ, носитель мировой энергии (‘великолепие’) и в то же время почти одушевленный, лично-заинтересованный партнер по контакту (‘единство’). В соответствии с темой в стихотворении фигурирует не апокалиптически революционный, «блоковский» ветер (ср. одноименный цикл из «Когда разгуляется»), а более интимный, элегичный. Ср. …Этот ветер тем родственен мне…; …У плетня / Меж мокрых веток с ветром бледным / Шел спор. Я замер. Про меня!…; ветерок, / Что ночью жался к нам дрожа; Ветер вам свистел в прикрытье: / Ты от пуль заворожен; Только ветер бредет наугад / Все по той же заросшей тропинке, / По которой с толпою ребят / Восвояси он шел с вечеринки.[33]
‘Ветер’ и ‘колыбельная’ связываются в единую конструкцию с помощью общих для них элементов – ‘колебательного движения (раскачивания, укачивания)’ и ‘напевания’. Оба эти решения подсказываются инвариантами П.: мотивами ‘дрожь’ (‘великолепие’) и ‘приравнивание стихий и словесности, в частности, рождение слов из шума стихий’, ср. Это ведь бредишь ты, невменяемый, / Быстро бормочешь вслух; Речь половодья – бред бытия; Он [ручей] что-то хочет рассказать / Почти словами человека и т.п.[34]
Проекция комплекса ‘сон–колыбельная–ветер–раскачивание’ в сферу стиля определяет установку на ‘усыпляющую монотонность и укачивающую двухчастность’ используемых структур. Еще одно важное стилистическое решение состоит в том, чтобы совместить мотив ‘колыбельная как стихи, сочиняемые ветром’, с ‘прояснением’ структуры, в частности, с ‘постановкой синтаксической сложности на службу успокоению’. В результате имеем: ‘прояснение формы стихотворения, иконически вторящее нахождению успокоительных слов колыбельной’.
Третья важнейшая синтаксическая находка – положить в основу структуры ‘эллипсис’, способный выполнить одновременно ряд функций. Прежде всего, он способствует ‘вялому перетеканию’ (работая таким образом на ‘единство’, ‘дробность’, ‘вялость’). Во-вторых, он создает эффект некоего ‘отсутствия, пустоты’, иконически воплощающий как самую общую тему ‘смерти героя’, так и образ ‘ветра’, замещающего героя в стихотворении. Это замещение, вполне в духе пастернаковской метонимики, направленной на понижение роли лирического субъекта (см. Прим. 17), особенно актуально для данной темы, и в частности, для эффекта незаметности чудесного посмертного присутствия лирического героя. «Я» замещается невидимым ветром, ветер – объектами раскачивания, а упоминания о ветре и раскачивания сводятся на-нет эллипсисом. Наконец ‘эллипсис’ – синтаксический инвариант П., совмещающий пристрастие к перечислениям и некоторый эмоциональный ‘напор’ (‘единство, великолепие’) с ‘разговорностью’ (‘обыденное, низкое’, см. о нем Прим. 19); в «Ветре» применен слабый вариант характерной эллиптической конструкции ‘распределительный контакт’.[35]
Итак, ГР «Ветра» в общих чертах таково: смерть «я» – поэта и «святого» героя романа «Доктор Живаго» – преодолевается чудом посмертного продолжения его духовного и поэтического присутствия и единением оставшейся в живых героини со вселенной, в частности, с ветром, который, представляя как ее душу, так и душу умершего поэта, утешает ее, напевая ей колыбельную, чему вторит двухчастность многих членений текста, Стихотворение строится как единый эллиптический период, дробимый паузами; синтаксическая и строфическая структура одновременно усложняется и проясняется в связи с упоминанием колыбельной. Изложение ведется в вялом монотонном, «простом» ключе, тропы ненавязчивы, эффекты приглушены.
Важный аспект всякого ГР – характер взаимодействия между разными планами структуры: оно может строиться либо на их изоморфизме, либо на контрапункте. «Ветер», с его ‘простотой’ и точной проекцией предметного плана в стилистический, естественно избирает изоморфизм, решение, которому предстоит сказаться на композиционной организации текста.
3. Композиция
Этот уровень – первая линейная развертка структуры. Единым композиционным контуром стихотворения становится схема ВНЕЗАПНОГО ПОВОРОТА,[36] подсказываемая одними компонентами глубинного решения и адаптируемая в соответствии с другими.
Желательность композиционного поворота вытекает из природы таких мотивов, как ‘преодоление‘, ‘утешение’, ‘прояснение’, лежащих в основе ГР. Конструкция ВН–ПОВ – естественное орудие для их развития и эффектного подчеркивания их ‘чудесности’; с другой стороны, под влиянием ‘вялости, монотонности, перетекания’ острые углы этой конструкции должны быть несколько сглажены. Общая логика ‘утешения’ ведет от негативного состояния к позитивному, и классический ВН–ПОВ требовал бы заострить эти крайние звенья и вставить между ними еще более негативное среднее, содержащее, однако, залог позитивного исхода. Однако, установка на ‘сглаживание’ ослабляет негативность начала и, главное, середины, а также позитивность конца.
В частности, максимально негативному среднему звену приданы черты с одной стороны, ‘разрастания, размаха’, а с другой, – своего рода ‘пустоты, отсутствия’, что в целом создает эффект ‘внешней экспансии, незаполненной просторности’. Это решение удачно отвечает сразу ряду требований: возрастание негативности оказывается чисто внешним, оно приглушено, выдержано в духе общей ‘вялости’, иконически вторит (своей ‘пустотой’) мотивам ‘смерть’, ‘ветер’, ‘эллипсис’ (см. выше) и образует компромиссный (плавный а не зигзагообразный) переход к финальному ‘успокоению’ так что начальная фаза оказывается в каком-то смысле наиболее интенсивной из трех.
Что касается финала, то его позитивность ослаблена тем, что он связан с ‘успокоением и прояснением’, т.е. спадом количественного размаха, а не триумфом, подъемом, как часто у раннего П.[37] В соответствии с ГР, эта осторожно-оптимистическая концовка строится на совмещении ‘утешения колыбельной песней’ с ‘успокоением и прояснением’. По контрасту с трактовкой позитивности как ‘ясности, осмысленности’ в финале, негативность начала представлена как ‘хаотичность, стихийность’ (умеренная, разумеется, в духе ‘вялости’).
Установка на ‘ясность’ проявляется (помимо финального ‘прояснения’) в том, что стихотворение открывается чем-то вроде пролога (строка 1), содержащего в зародыше все последующее развитие,[38] а также в подчеркивании симметрии между крайними звеньями ВН–ПОВ, желательной и с точки зрения колебательной ‘двухчастности’. Кстати, трехчленность конструкции ВН–ПОВ отчасти согласуется с ‘двухчастностью’ (колебание по определению состоит из двух тактов и трех состояний покоя), отчасти образует с ней контрапункт, работающий на ‘перетекание’: композиционное деление (двух- или трехчастное?) оказывается смазанным,[39] причем пик развития приходится (в ряде отношений) на самую середину текста.
Итак, в основу композиции «Ветра» положена несколько вялая «диалектическая кривая», ведущая от (сдержанно) интенсивного, хаотичного негативного «тезиса» (I фаза: строки 1–4) через экстенсивный, «пустой», негативно-позитивный «антитезис» (II фаза: строки 5–8) к более или менее позитивному, успокоенно-проясненному «синтезу» (III фаза: строки 9–12). Рассмотрим, по возможности кратко, основные проекции этого общего контура (организующего и несущего на себе многочисленные более конкретные композиционные решения и элементы (ГР), на разные планы структуры. Проекции эти в целом изоморфны друг другу, хотя, в соответствии с принципом ‘вялого перетекания’ их границы в разных планах не точно совпадают друг с другом, смазывая общее членение на три фазы.
Сюжет. Здесь происходит поворот от ‘смерти, горя, стихийности’ к ‘жизни, утешению, прояснению, человечности’, основанный на более или менее традиционном переосмыслении ‘ветра’: ‘убаюкивающему ветру’ предпослан ‘ветер воющий’, т.е. отчаянный разгул стихии. Узловым сюжетным решением, связывающим эти противоположности, становится мотив ‘раскачивания’, выражающий ‘интенсивную негативную стихийность’ и готовящий ‘колыбельное укачивание’. Он опирается на инвариантные у П. мотивы ‘физическая интенсивность’, ‘воздействие, приводящее в дрожь’, и ‘выход из дома’ (так сказать, на воздух широт образцовый), причем последний (как и сам факт метонимической передачи ‘горя’ ветру) скрадываетостроту переживания.
Поворотная роль ‘раскачивания’ поддержана пространственной организацией сюжета. В изображении ветра и объектов ‘раскачивания’ описывается излюбленная пастернаковская траектория ‘дом – макромир – дом’,[40] демонстрирующая мощную экспансию и контакт со вселенной. Так движение, возникшее как выражение интенсивных негативных эмоций, становится экстенсивным и нейтральным или даже позитивным – в (характерном для П.) смысле физического и пространственного успеха; одновременно создаются условия для реализации двойственной установки II фазы на ‘незаполненную просторность’. Этот часто внешний успех движения «туда» подготавливает ценностное, духовное разрешение, наступающее при движении «обратно». При этом сужение перспективы в финале соответствует задаче связать позитивный исход с ‘прояснением и успокоением’, а не ‘подъемом’ (ср. Прим. 37), а также принципу зеркальной симметрии.
На службу симметрии поставлен также мотив ‘колыбельной’: благодаря помещению ‘смерти’ в начало, а ‘колыбельной’ в конец, сюжет принимает форму изящно замкнутого цикла ‘смерть (героя) → усыпление (героини)’. Это обрамление (построенное на «контрасте с тождеством») поддержано подспудным противопоставлением мотивов ‘конец жизни, смерть’ / ‘начало жизни, детство’, которыми – с парадоксальной инверсией – начинается и кончается стихотворение.
Еще одна сюжетная симметрия – ‘наличие звука’ в начале (интенсивного хаотичного, негативного, сугубо эмоционального: жалуясь и плача) и в конце (успокаивающего, осмысленного, позитивного, организованного – словá / Для песни колыбельной) и ‘полная беззвучность’ в среднем звене, подчеркивающая его ‘внешний и пустой’ характер.
В иконическом соответствии с темами ‘прояснения, осмысления, загробной мудрости, и т.п.’, а также с внешним характером ухудшения во II фазе, из двух основных типов сюжетного поворота выбрано регрессивное узнавание, т.е. ментальный, а не событийный ВН–ПОВ (см. Жолковский и Щеглов 1981: 121–7): ветер не столько сначала бесцельно воет, а потом целесообразно напевает, сколько чисто внешне изображает и осмысляется в таком порядке.
Поворот к утешительному исходу подготовлен «прологом», сообщающим, что ‘я физически умер, но ты жива и я жив духовно’, и таким образом смягчающим негативность описываемых событий.
Тропы. Диалектическая кривая прослеживается и здесь. В первой же строке («прологе») вводится фигуральное лирическое «я», которое умерло, но продолжает говорить. В I фазе появляются метафоры-метонимии, перебрасывающие мостик между физическим и духовным миром: ‘ветер ≈ моя душа ≈ твоя горе’ и ‘сосна раскачивается ветром не отдельно, а вместе с целым пейзажем ≈ героиня страдает (и будет утешена) в контакте с героем и вселенной’ (ср. Пусть ветер рябину заняньчив, / Пугает ее перед сном. / Порядок творенья обманчив, / Как сказка с хорошим концом; …Ничего / Не может пропасть…; Смотри, и рек не мыслит врозь / Существованья ткань сквозная; И вот, бессмертные на время, / Мы к лику сосен причтены … и т.п.)[41]. Они играют важную роль и готовят поворот (совмещение противоположностей, особенно в ‘(не)отдельной сосне’), но пока что проходят подспудно (‘сдержанность’). Во II фазе дается развернутое сравнение (‘дерева + даль ≈ парусник + бухта’), эксплицитно утверждающее самый принцип метафоризма, но лишь в чисто физической сфере (‘внешняя экспансия’). Наконец, в финале впрямую вводится решающая метафора ‘ветер ≈ певец колыбельной’, проясняющая эмоциональный и физический мир словом.
Синтаксис. На организации единого эллиптичного периода, дробимого паузами, характеризующегося двучленностью и одновременно усложняющегося и проясняющегося к концу (см. ГР), основные композиционные принципы сказываются следующим образом.
‘Единство’ периода строится на использовании разнообразных подчинительных связей (деепричастных оборотов, гипотаксиса предложных групп), сочинения независимых предложений и эллипсиса. На ‘вялость’ работают: низкая связность всякого паратаксиса (по сравнению с гипотаксисом); регрессивность большинства сочинительных присоединений в тексте (за исключением инвертированных структур не…, а …, создающих прогрессивное тяготение); слабость предложных связей (это не сильные управления); совпадение основных членений с границами строк (нет переносов). Пори этом большинство синтаксических конструкций двучленно, ср. в частности: пары однородных членов в 2 и 3; двучленность структур с а, и, не, или и предложных с со, на; повторы в 9–10.
Турдефорс ‘простоты/сложности’ проявляется в том, как период развивается от простых и слабых связей к более сложным и сильным (постепенно вводится чуть ли не вся русская грамматика): от непереходных глаголов через переходные к трехвалентному и от сочинения к подчинению, в частности от простых нераспространенных предложений через распространенные (с прилагательными, однородными членами, предложными и сравнительными группами) и сложно-подчиненному (…чтоб…).
Диалектический изгиб вносится сюда наличием в I фазе элементов гипотаксиса, хотя и бессоюзного и не-личного (двойного деепричастный оборот), тогда как во II фазе он выражен внешне (словом Как), но в то же время почти сведен на нет (глагол опущен, подчинение полусоюзное-полупредложное). Таким образом, средняя фаза и тут являет картину чисто механического расширения; именно на нее приходится основной ‘эллипсис’ – синтаксическая проекция ‘пустой просторности’.
Этот эффект поддержан распределением важнейших инверсий и повторов (строки 2–4 и 9–10) и соотношением кусков по масштабу и связности. Действительно,
– в I фазе налицо густое скопление коротких, но тесно связанных кусков (‘интенсивность’), и довольно хаотичная структура 1 + 2 + 1;
– во II фазе – длинное эллиптичное растягивание одной синтаксической единицы, причем остановка возможна почти на каждом строкоразделе: (1+ 1) + (1 + 1);
– в III – наиболее связная конструкция (1 + 1) + 2, совмещающая двучленность со сложностью и прояснением,[42] а также противительную преамбулу (не…) с последующим утверждением (…, а чтоб), все в пределах четырех строк одной фазы.
Бегло отмечу прочие синтаксические проекции композиционного контура. Стихотворение в основном написано в несов. виде наст. вр. и обрамлено формами сов. вида, прош. вр. в начале и инфинитива со значением буд. вр. (смягченного сослагательностью) в конце, так что налицо спираль, совмещающая зеркальную симметрию с развитием. При этом I фаза насыщена глагольными формами (‘интенсивность’), а II не содержит их совсем (эллипсис, пустая экспансия).[43]
Аналогичную спираль образует и семантика основных коннекторов: в фазе они логические (а, не, и) и скрыто-причинные (И); во II – логические и пространственные (а, полностью, со, как, на); а в III логические (не, или, а), скрыто или явно причинные (в [тоске]; цз) и целевые (чтобы, для). Налицо диалектическое развитие к большей ‘осмысленности’. При этом в две поворотные точки (от I фазы ко II и от II к III) поставлен один и тот же коннектор (не…, а…), что отвечает общему принципу данного ВН–ПОВ: решающий перелом к ‘осмысленности и утешению’ готовится сначала на материале первого, чисто физического поворота.
Что касается основных местоимений, то текст начинается с ‘я’, сосредотачивается на ‘ветре’ и заканчивается на ‘тебе’ – кольцо из личных местоимений, с развитием от одного из них (представляющего умершего героя) к другому (живой героине) и с существительным (т.е. 3-м лицом, к тому же обозначающим ‘пустоту’ и эллиптически опущенным в большинстве строк) в середине.
Многие черты синтаксической композиции заданы в «прологе»:
– турдефорс ‘ простоты’ (простые нераспространенные предложения с непереходными глаголами) и ‘сложности’ (сложное предложение, все основные актанты, оба противоположных предиката);
– двухчастное качание, вялое противительное присоединение;
– движение от негативного элемента к позитивному, от «я» к «ты», от законченного прошедшего к незаконченному непрошедшему.
Строфикастихотворения не основана на какой-либо «правильной» структуре, а, так сказать, формируется на глазах читателя, иллюстрируя рождение поэзии из хаоса и ветра.
Схема рифмовки аВВСаСаСаСаС воплощает:
– турдефорс ‘дробности/связности’ и ‘простоты/сложности’: это единый кусок, не распадающийся на строфы и построенный практически на одной паре рифм (‘монотонность’);
– диалектическое развитие к большему размаху, а затем к большей ясности.
Рифмовка движется от подчеркнутого повторами хаоса через цепь присоединений (= чередующихся рифм) к ненавязчивому закреплению наметившейся «строфы» (строки 9–12). Это «четверостишие», вместе с выкристаллизовавшейся четкой и сложной синтаксической структурой, наложенной на него по схеме (1 + 1) + 2), служит, в соответствии с ГР, иконическим эквивалентом ‘прояснения, осмысления’, параллельно совершающегося в сюжетном плане. Срединное разрастание выражается в длине первого строфически законченного отрезка (8 строк). Вялое присоединение поддержано несовпадениями синтаксических и строфических членений (в конце 1, 3, 5).
В 4-й строке тяготения в обоих планах совпадают, причем рифменное тяготение создается обманом ряда ожиданий. Появляется «лишняя» рифма (вместо замыкания потенциального четверостишия аВВа), причем женская (вопреки принципу альтернанса), и не знакомая (В), а новая (С – вместо, скажем, возможного растягивания опоясывающей рифмовки в аВВа).
Таким образом 4-я строка становится поворотной точкой развертывания рифмовки. С одной стороны это композиционный надир (рифменный хаос достигает предела), с другой, – начало последующего позитивного развития: здесь появляется рифма С, которой предстоит завершить структуру, и начинается равномерное (‘колебательное’) чередование двух главных рифм (а и С) и согласованное взаимодействие синтаксиса и строфики (частичная остановка в конце 6 и полная в конце 8, а затем единое дыхание в 9–12).[44]
По понятным причинам, в области строфики лейтмотивный «пролог» не представлен.
Метр и ритм. Эффект ‘сложной простоты’ достигается приданием «обычному» 4-ст. ямбу (без особых хитростей и без обращения к редким VII и VIII формам и к «громкой» I) значительного разнообразия. Метро-ритмически почти все строки разные (кроме 6 и 8), различаясь либо формой ямба (местом ударений и пропусков), либо положением словоразделов (см. Табл.2).[45]
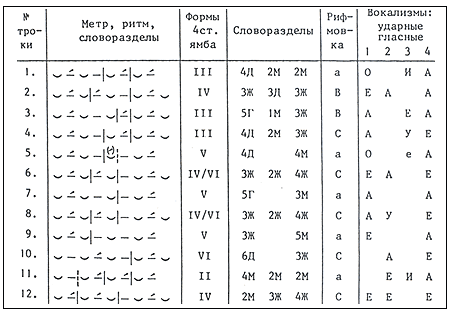
Таблица 2. Некоторые планы стилистической сферы
‘Вялость’ и ‘двучастность’ ритмического рисунка создаются низкой акцентированностью строк (пропусками одного-двух ударений) и чередованием двух основных двухударных типов строк – с женской рифмой и сильным импульсом на 2-й стопе (строки 6, 8, 10, 12) и с мужской рифмой и сильным импульсом на 1-й стопе (строки 1, 5, 7, 9).
Диалектическая кривая строится следующим образом. «Пролог» сразу задает: трех-, а может быть и двух- ударность (ты акцентировано слабее), сочетание нисходящих (я кóнчился) и резко восходящих мужских (а ты живá) словоразделов и вообще смену нисходящей интонации «конца», восходящей интонацией продолжения.
I фаза в целом (строки 1–4) характеризуется трехударностью, сильным ударением на 1-й стопе и наличием мужских, т.е. активных, восходящих, словоразделов, как бы развивая потенциал 1-й строки и в особенности ее 2-го полустишия (‘интенсивность’).
Затем в строках 5–8 (и даже вплоть до 10-й), сдавленная энергия Ш фазы освобождается и захватывает большое пространство: устанавливается ровный и широкий двухударный ритм с чередованием V и VI форм (ударения на 1-й стопе в 6 и 8 очень слабые) и без мужских словоразделов (‘просторность, пустота, двучленность’), причем происходит как бы борьба между ударностью 1-й и 2-й стопы (т.е. между «пастернаковским» и «пушкинским» ритмом).
Завершается композиция утверждением роли мужских словоразделов тоскé, найтú, тебé (‘активность, жизнь’) и ударности 2-й («пушкинской»), а не 1-й стопы (‘прояснение, традиционность’), а также возвращением к трехударности, т.е. замедлению, причем теперь уже на интонационном спаде (‘успокоение’). Заключительная строка – почти точное зеркальное обращение 1-й и повторение 2-й (‘симметрия’), см. Табл.2.
Фонетика. Консонантизм, в общем, воплощает ‘сложность, богатство’: равномерно представлены велярные, зубные, губные, глухие, звонкие, аффрикаты, спиранты, сонанты, с некоторым предпочтением к звонкости, плавности, но не резкости (мало р). Вокализм (см. Табл. 2) скорее представляет ‘простоту, монотонность, вялость, единство’ (основные гласные – á, é), но в каком-то смысле отражает и богатство (по 2 раза проходят ú, ó, ý).
Принцип ‘вялого единства’ выступает также в форме характерного для П., но ненавязчивого, «плетения» звуков, ср.: переклички соседних (живá и вéтер) и отдаленных строк (напр., 4 и 8 с их ударными á–ý–ú–é; плавное перетекание строки в строку (3: кá – дá; 4: кá – дé; 6: дá –дé); парономастические цепи (отдельно – далью – беспредельной – глади – удальства – тебе для).
‘Двухчастность’ осуществляется в виде принципа ‘фонетической парности’: строки распадаются на половины, сопоставленные повторами (2: жáл – лáч; 3: áч – áч; 5: п(ó) – в(á); 6: д(á) – д(é); 7: пá – вá; 8: б – б). Фонетически сходные строки образуют чередующийся рисунок, вторящий чередованиям в других планах (так в 4, 6, 8, ударные слоги основаны на зубных, а в 5, 7, 9 – на губных).
На фоне этой монотонной с чередованиями, единой фонетической ткани вырисовывается знакомая диалектическая кривая. Через весь текст проходят А, Л, Н, С. Сначала преобладают К, Ч/Ж, Л, А, орнаментированные менее частыми или заметными Н, Д, О, И, Е. Затем в среднем куске, роль Ч/Ж, И падает, а А, Л, О, К сохраняют свое положение, причем от А отпочковывается Е, от О – У, а от Л – Л (´)Н; на первый план выходят зубные Д (Т) и губные Б (П, В). В конце фонетический спектр несколько сжимается: пропадает «крайнее» У; «среднее» Е торжествует над «крайним» А, а губные над зубными; но в целом большинство сохраняет позиции, завоеванные в средней фазе – Б/В, Д/Т, Л (´)Н, Е, А.
В фонетическом плане «пролог» отсутствует.
III. Поверхностная структура
Этот уровень описания охватывает все художественно-релевантные элементы и соотношения текста и практически задает его во всей его уникальности. В идеале в каждой точке текста должен рассматриваться весь ансамбль эффектов, создаваемых в разных планах, а каждый эффект – выводиться из элементарных свойств соответствующего плана. Я сосредоточусь лишь на некоторых новых по сравнению с глубинной структурой эффектах.
1. Первая строка: «пролог»
Это одновременно завязка I фазы и пролог ко всей структуре: сразу же заданы основное событие, основная тематическая оппозиция и основные актанты (‘земное я’, ‘загробное я‘, ‘ты’), причем в той же последовательности и в той же дозировке конца и продолжения, горя и оптимизма.
Семантически, сообщение и достаточно прямолинейно, буквально (без тропов), и смягчено выбором несколько неопределенного кончился (вместо безапелляционного умер). Грамматически мы также сразу попадаем inmediasres – в двухчастное, двухглагольное, сложно-сочиненное предложение с регрессивным полупротивительным присоединителем, а, состоящее из полных простых нераспространенных двухчастных (подлежащее + непереходное сказуемое) предложений и задающее начальный минимум сложности. Первое сказуемое – в прош. вр. сов. вида, второе – в наст. вр. несов. вида, открытом к будущему.
Синтаксическое членение идеально совпадает с метрическим – на полустишия, из которых первое имеет 1 ударение и дактилический словораздел, а второе – 2 ударения и 2 мужских словораздела, образуя схему дробления: 1 + (0,5 + 0,5). Дробление сопровождается переходом от нисходящего («хореического») принципа к восходящему (с двумя ямбическими словоразделами). В целом возникает рисунок устремления вперед, но без разрастания.
Строка написана довольно редкой III формой ямба (ударение на 3-й стопе: а ты´), довольно редким мужским словоразделом и редкой – для начала – мужской рифмой. Так что и в этом плане начало звучит очень определенно.
Мужская рифма подчеркнута фонетически «крайним» á, которому предстоит доминировать почти до конца, но пока это один из трех разных ударных гласных (ó – ú – á) в строке, вокалически и ритмически скорее трех-, чем двухчастной. При этом ее фонетика вводит репертуар I фазы, а не целого и оркеструет негативное 1-е полустишие глухими (к, ч), а позитивное 2-е – звонкими (ж, в).
2. Строки 2–4: «разработка»
Точка в конце 1-й строки (подобно запятой в ее середине) преодолевается очередным «слабым» присоединением – регрессивным сочинением. Некоторый прогрессивный импульс создается «открытостью» 2-го полустишия 1-й строки (начало текста, первая рифма, ‘жизнь’, наст. вр., ритмическое дробление). Регрессивно (в 2–4) этот импульс подхватывается и оправдывается:
– временным, каузальным и метафорическим развертыванием ситуации (скрыто-причинное И; ‘ветер’ – ипостась обоих актантов, введенных в 1);
– ритмической цельностью строк 2 и 3 (дробление 1-й строки сменяется разрастанием);
– фонетическим и просодическим подхватом (живá – и вéтер), вводящим главного героя-медиатора с его средней огласовкой на é (в дальнейшем торжествующей);
– принципом трехударности и ударности 1-й стопы, объединяющим всю I фазу.
Строки 2–3 являют картину интенсивного развития и цельности– единое предложение в 2 строки с прогрессивным тяготением. Это достигается благодаря
– насыщенности сильными (хотя и негативными) переживаниями, физическим действием, глагольными формами, рифменными и вообще звуковыми повторами (здесь единственная в стихотворении пара смежных рифм; все три первые рифмы – на á; ср. тж. цепь: жáл – лáч – áч – л(é) – áч); – сильному управлению (появляется переходный глагол раскачивает) и инверсии там, где управления слабые (непереходные деепричастия поставлены перед сказуемым), и
– синтаксическому кольцу (хиазму), охватывающему обе строки: N – V – V/ V – N – N.
Наряду с цельностью развивается и дробность: однородное сочинение спускается на уровень подчиненных глагольных форм (деепричастий), а затем и именных групп (лес и дачу). Размещение слов проецирует принцип ритмического дробления (из 1) в лексико-синтаксический план (ветер – жалуясь, плача; раскачивает – лес, дачу), что в 2 поддержано и фонетическим рисунком (é – жáл, лáч), а в масштабе всего отрезка – рифмовкой (ва – ача – ачу). Кстати,[46] на ‘дробность, хаос’ работает и неполная точность этой рифмы, первой же в стихотворении. В результате синтаксическая пауза в конце 3 приходится на точку незаконченности, неустойчивости в плане членений (и, разумеется, в строфическом).[47] Таким образом, цельность и трехчастность совмещаются с дробностью и двухчастностью.
‘Двухчастность’ особенно заметна в 3-й строке – благодаря:
– симметричному расположению повторов (ударного –áч-);
– силе двух крайних ударений (по сравнению с односложным лéс в 3-й, предрасположенной к пиррихию, стопе);
– длине первого слова, действительно занимающего полстроки, к тому же глагола (в 2, наоборот, за одним коротким существительным следовали две глагольные формы).
Связанному с ‘двухчастностью’ эффекту ‘колебательности’ способствует также чередование, в строках 1–3, двух форм ямба, III и IV (или что то же самое, пиррихиев на 2-й и 3-й стопе), готовящее сходный эффект II фазы, причем оно сопровождается колебаниями длины первого слова (4 слога – 3–5), причем резкое удлинение и контраст с соседним односложным лéс приходится как раз на слово раскачивает.
В целом, общее расширение структуры происходит на фоне раздробленности, неустойчивости, незаконченности, хаотичности, напряженности и динамизации в ряде планов.
3. Четвертая строка: «(не)отдельность»
Как мы помним, строка эта – критическая в ряде отношений. Она располагается на границе между I и II фазами и образует первый поворот в композиции стихотворения. Внешне, это[48] поворот к худшему (экспансия проявлений горя), а по сути дела – к лучшему (демонстрация единства с миром и физической мощи). Более того, тот поворот служит предвестием последующего решительного поворота к торжеству ‘единства и позитивности’ (в III фазе). Художественное решение этого набора задач, определяющее структуру четвертой строки, состоит в том, что она строится на совмещении двух противоположностей – ‘отдельности и единства’ – как двойственное воплощение ‘(не отдельности)’.
‘Отдельность’ прямо названа в этой строке по имени – словом отдельно, поставленным к тому же под рифму. ‘Отдельная сосна’ оказывается той конкретной деталью пейзажа, на которой сосредотачивается придирчивое внимание присутствующего/отсутствующего «я», воплощенное конструкцией не…, а… . При этом сам коннектор не знаменует высшую степень интенсивности (и контраста) по сравнению с более слабыми а, и и тем самым выделяет строку. Возникает единственный в стихотворении крупный план: вся строка эта практически одна именная группа в единственном числе, обозначающая единичный физический объект.[49] Выделена эта строка и строфически: это пик хаоса и совершенно новая – отдельная – рифма, причем, в нарушение принципа альтернанса, вторая женская рифма подряд, причем первая рифма не на á. Синтаксически, 4-я строка отделена от предыдущей точкой, а в плане ритма она выделена наличием трех одинаковых сильных ударений (в том числе на редко акцентируемой 3-й стопе, где ударение приходится к тому же на саму соснý, поставленную в середину строки)[50], равномерно разделенных паузами (в отличие от строк 2, 3 с их синтаксическим дроблением 1 + (1 + 1)) и падающих на три разных гласных (á – ý – é). Даже интертекстуальная сфера (не особенно активная на других уровнях и в других частях текста) привлекается здесь чтобы подчеркнуть мотив ‘отдельности’ – с помощью намека на гейневско-лермонтовскую одинокую сосну (ср. Прим. 41). Этим ненавязчивым подтекстом подкрепляется столь же осторожно вводимый здесь троп (‘отдельная сосна ≈ одинокая героиня’), один из немногих в стихотворении, выделяющий строку на фоне ее не-переносного контекста.
Однако, интертекст, как это часто бывает (ср. Риффатерр 1978), служит отправной точкой для переосмысления – ‘отдельности’ предстоит быть поглощенной ‘единством’, и поворот в этом направлении начинается в строке 4. Лексически (=сюжетно) ‘отдельность’ снимается отрицанием не. Синтаксически строка открывает длинное, в 5 строк, перечисление, причем благодаря инверсии (не…, а…) здесь возникает прогрессивное тяготение, поддержанное регрессивно семантико-синтаксическим хиазмом, способствующим цельности (каждую сосну – отдельно – полностью – все дерева). В то же время,[51] строка регрессивно связана с предыдущими, представляя собой эллиптическое распространение прямого дополнения к сказуемому раскачивает во 2-й строке. Строфически, эта холостая пока что строка создает сильное тяготение, толкающее к рифменному развитию. При этом, именно здесь, в точке рифменного надира, появляется новая рифма С, которой предстоит пронизать всю последующую рифмовку и завершить стихотворение. Кстати, аналогичная интеграция 4-й строки в общее композиционное единство осуществляется и взаимодействием трех других планов. Даваемый здесь намеком сюжетный поворот от ‘отдельности’ к ‘единству’ получит свое подтверждение когда за ним последует уже совершенно недвусмысленный поворот в финале, связь с которым поддержана сходством двух тропов (‘сосна ≈ героиня’, ‘ветер ≈ певец колыбельной’) и двух синтактико-риторических конструкций (не…, а… в 4 и 9–11).
Возвращаясь к связям строки 4 с ее непосредственным окружением, метрически она примыкает к I фазе, будучи еще одной и, последней, трехударной строкой подряд причем той же формы (III, с женской рифмой), что и предыдущая. Фонетически, ее сильно-ударный слог кáж– является последним аккордом в цепи повторов I фазы (к´ – ч, ж – á, жáл, лач, кáч, áч, кáж). С другой стороны, лексически, то же слово каждую начинает цепь кванторных слов, протягивающихся через всю II фазу (каждую – не… отдельно – полностью – все – всею – беспредельной). Еще одно фонетическое сходство, рисунок ударных гласных á – ý – é, связывает 4-ю строку с 8-й, замыкающей следующее «четверостишие».
4. Строки 5–8: ‘простор’
‘Просторность’, достигаемая во II фазе, складывается из ‘полноты, размаха, цельности’ с одной стороны, и ‘пустоты, вялости’, с другой, причем пик ‘размаха’ приходится, в соответствии с контрапунктом трех- и двухчастности. то ли на 8-ю, то ли на 6-ю строку.
‘Полнота’ прямо выражена словами со значением ‘всеобщности’, ‘множественности’, ‘большого размера’ (полностью, все, со всею, беспредельной; дерева, парусников кузова; далью). Маршрут, призванный охватить «весь мир», достигает неожиданным метафорическим скачком ‘моря’, которое часто мерещится поэту за стволами (ср. «Орешник», «Сосны», «Разлуку»).[52] Дачно-лесной пейзаж искусно скреплен с прибрежным рядом средств: общим предикатом ‘раскачивание’; сходством предложных конструкций в 5–6 и 7–8; элементом ‘древесность’, ясно проступающим в кузовах и неназванных мачтах; неожиданным эпитетом к бухте (корабельная), который характерным пастернаковским сдвигом перенесен сюда от сосны (ср. у П. с одной стороны, Топить мачтовый лес в эфире, а с другой – лексические подмены типа …на глаза навернулись, / Слезя их, заливы в осоке).[53] Кстати, кузова, возможно, являются предвестием – опять-таки не названной – ‘колыбели, люльки’ в 12-й строке.
Синтаксически это длинный период построенный на растягивании одного прямого дополнения и одновременно на характерной для П. схеме ‘распределенного контакта’ (‘А с В, С с С’), хотя и не максимально четкой (раскачивает… дерева… с далью, как… кузова… на глади) (см. Прим. 35).
Далее, 5-я строка сопоставлена с 1-й: положением, риторикой (…, а…), замкнувшейся, наконец, рифмой, фонетикой (я кóнчился – а пóлностью). Но и содержательно, и интонационно, и по масштабу здесь явное нарастание. Под позитивное утверждение теперь отведена целая строка (с продолжением в следующей), причем цельность интонации усилена благодаря единой волне, идущей из 4 (см. выше о хиазме), и инверсии (препозиции полностью по отношению к дерева, создающей прогрессивное тяготение, ср., напротив, прямой порядок сосну отдельно в 4, при котором после соснý возможна полная остановка). Цельность подчеркнута внеметрическим полу-ударением (на все(´)). Еще более цельной интонация становится в 7, где инвертированы члены тесной именной группы (полностью относилось к глаголу, а парусников зависит от кузова). Отсутствие синкопы (типа все(´)) делает эту строку более легкой: в 5 цельность еще преодолевала препятствия, в 7 она уверенно торжествует. Строфическими средствами (незарифмованностью слова отдельно) тяготению от 5 к 6 придан даже прогрессивный характер.
Переход к двухударности естественно делает строки более просторными и в смысле пиррихиев. Пик этой «безударности» будет достигнут в III фазе (в 9), а здесь ее максимумом становится 7. Параллельно увеличиваются: – длина метрических слов, достигающая пяти слогов в 7 (впервые в строке с мужским окончанием);
– и фонетическое единство строк – с помощью сведения числа разных гласных к одному (в 7), аллитераций и парономасий (особенно в 6 и в 7).
Одновременно аллитерации сплачивают воедино как двустрочные куски (зубные де – дá – дé первый; губные пá – вá – бý – бé второй), так и всю фразу в целом (происходит постепенное нарастание губных: пó – вá / пá – вá – бý – бé).
‘Пустота’, являющаяся оборотной стороной ‘просторности’, рядом средств развивается в направлении ‘вялости’.
Несмотря на внутренние инверсии (в 5, 7) сами строки следуют в прямом порядке, что, в сочетании с регрессивными коннекторами, способствует ‘вялости’ присоединений: фаза распадается на двустрочия, а двустрочия на строчки, объединяемые лишь задним числом. Строфически, остановка возможна после 6, и не происходит лишь потому, что в гипотетической строфе *аВВСас короткое окончание аС недостаточно уравновешивало бы интенсивное начало, особенно при синтаксическом единстве строк 5–8.
Цельность всего отрезка как именной группы также достигнута за счет некоторого «опустошения» – отсутствия глаголов. А увеличение масштаба сочленений (располагающихся теперь не внутри полустиший, как в 2, 3, а между строками) сопровождается утратой интенсивных повторов (а… со… как… на… вместо, скажем, *и… и… и… и…).
На ‘вялость’ работает и колебательное чередование двух типов строк, поддержанное фонетикой (рифмы на á / на é) и синтаксисом (структурой N1 – Prep – N2 – A, сходно распределенной по строкам). Чередование мельчит фрагмент, и устроено оно так, что четные (т.е. «конечные») строки являют большую ‘вялость’. Отмечу: женские окончания; повышение точности рифмовки (пиком станет заключительная рифма в 12); большее число ударений и идеальное ритмическое сходство строк 6 и 8, единственное в стихотворении; прилагательные в исходе и постпозиции; отсутствие иных инверсий; общее успокоение в конце фрагмента. чему способствует и более четкая трехударность (глáди более ударно чем все(´)ю) и трехвокальность (á– ý – é) 8-й строки.
Игра ‘простора, размаха’ и ‘пустоты, вялости’ соседствует и взаимодействует с важным композиционным противоречием, разыгрывающимся во II фазе.
В соответствии с трехфазной схемой максимум пространственной экспансии достигается в 8-й строке с ее метафорическим скачком за пределы видимого пейзажа – к ‘морю’. А некое энергетическое нарастание продолжается и в III фазе, в строках 9–10 с их удальством и яростью. Лишь в 11–12 ‘успокоение’ будет полным.
Однако парадоксальным образом ‘спад и успокоение’ начинаются уже во второй половине средней фазы. По сравнению с беспредельной далью картина бухты с парусниками создает ощущение ‘замкнутости, конечности’, а гладь сводит физическое ‘раскачивание’ на-нет. Эта гладь предвещает финальное умиротворение также лексически (тишь да гладь) и фонетически (глади + корабельной ≈ колыбельной, с заменой -р- из второго слова на -л- из первого). Противопоставление конкретной глади бесконечной дали оттенено и фонетическим сходством. Некий спад заметен и в отказе (в 7–8) от кванторов всеобщности, изобиловавших в 4–6. В плане рифмовки строки 1–6 являют первое законченное единство.
В результате ‘беспредельная даль’ оказывается вершиной ‘размаха’, проводя ось зеркальной симметрии в точности после 6-й из 12 строк и таким образом накладывая двухчастность на трехчастность.[54]
5. Строки 9–12: ‘прояснение’
Заключительное четверостишие продолжает, суммирует и переосмысляет материал предыдущих фаз.
‘Продолжение’ доминирует в 9–10. Здесь сохраняется и даже достигает максимума малоударность: в 9 под единственное (помимо рифмы) ударение поставлено почти не ударяемое это. Соответственно возрастает и длина метрических слов (5, а то и все 8 слогов в 9-й; 6 в 10-й, с эффектной внеметрической синкопой на 1-м слоге: и(´)ли из я´рости). Сохраняется колебание между разными типами двухударных строк и эллипсис того же глагола (раскачивает… и это…) и продолжается рифмовка на -вá и – éльно-.
Однако полной непрерывности (как между I и II фазами) нет. ‘Продолжение’ разбивается о границу, проведенную в синтаксисе (новый тип эллипсиса; союз И) и строфике (к концу 8-й строки рифмовка насыщена). В результате здесь начинается новый такт вялого присоединения, а не продолжается предыдущий.
‘Переосмысляющее суммирование’ под знаком ‘ясности’, ‘связности’ и ‘успокоения’ захватывает все 4 строки. Они построены по (прогрессивной) схеме замыкания (1 + 1) + 2, которая является обращением дробления I фазы в 2–3 и в то же время суммирует ряд средств из I и II фаз: пару метафорических негативных эмоций (удальство, ярость, ср. жалуясь и плача); коннекторы и, а, не; параллелизм двух соседних строк (ср. 2, 3); некоторые характерные ритмические ходы. При этом производятся интересные рекомбинации.
Негативные эмоции даются укрупненно, получая каждая по строчке. Возникающий повтор переключен, однако, в позитивный план благодаря:
– совмещению с разрастанием оборота не…, а…;
– редукции длинного, с многочисленными негативными распространителями, отчаянного раскачивает до уклончивого, полу-ударного, двусложного это;
– пространственному сближению коннекторов и и не, сразу же ставящему под отрицание весь негативный материал.
В результате фраза, начинающаяся с И (как в 2), аккумулирует позитивность и риторику 4-й строки (ср. не … отдельно) и интенсивность 2-й и 3-й, но не их негативность. К тому же этот фрагмент положен на «позитивный» ритм строк типа 5–8 (просторный, двухударный и т.п., – в отличие от ритма в 2–4). Негативные эмоции реализованы слабее и в лексико-синтаксическом плане – не глаголами (деепричастиями), а существительными с причинными предлогами (т.е. более неподвижно и телеологично, с ‘прояснением’). Интенсивность повтора сбита отсутствием второго не и выбором разделительного, а не кумулятивного коннектора (вместо *И это не…, / И это не…,имеем: И это не… / Или…).
В строках 11 и 12 ярко выражена тенденция к ’зеркальному обращению’. Именно на них приходится суммирующий отрезок (…, а…), и (в противоположность распределению риторики относительно ритма в 2–8) он идет на трехударном ритме. В свою очередь, сам этот ритм – обращение трехударного ритма начала стихотворения (см. Табл. 2).
В соответствии с общим ‘успокоением’ к концу, наиболее острые эффекты применяются не в последней, а в предпоследней строке. Если 12-я строка написана самой обычной IV формой ямба, то 11-я, напротив, редкой II, появляющейся здесь впервые, причем все словоразделы мужские, в том числе самый редкий, на 3-й стопе. Более того, на него падает новая в стихотворении и очень решительная глагольная форма найти (инфинитив сов. вида), по смыслу и форме зеркально отражающая кончился из 1. Симметрия поддержана фонетическим сходством строк (трехчленностью, рифмой, звуками а, т, ы´/и´). Кстати, фонетическая перекличка начала и конца включает и возвращение согласного к´- (в ударном слоге: тоскé), связанного в основном с негативной I фазой (кóнчился – раскáчивает – кáждую), чем 11-й строке придается определенная горькая острота. В колыбельной в 12 это к- (в безударном слоге!) уже полностью ассимилировано спокойно-позитивным финалом.
Замедление в последней строке обеспечено уже знакомыми средствами, в частности, синтаксической несвязанностью тебе с для песни (оба зависят от глагола найти) и постпозицией прилагательного.
Идеальное совпадение синтаксиса и строфики всего четверостишия и прямой порядок сильных управлений в двух последних строках делают заключение цельным и связным, но спокойным. ‘Умеренности’ способствует и замедленное, монотонное (впервые на одном, но зато на «среднем» гласном – é), трехударное (хотя и не слишком тяжелое) интонирование в последней строке, с ее женским рифменным окончанием, притом на зависимых членах (прилагательном, дополнениях, а не сказуемом) подчиненного (а не главного) предложения. Стихотворение завершается словом колыбельной, семантике которого вторит его идеально, почти каламбурно, точная зарифмованность, женская рифма (на –é), и даже ритмическая и фонетическая двухчастность (две двусложные, хореические стопы с -л- после сильного слога и -о- по краям).
Примечания
Я глубоко признателен коллегам, принявшим участие в обсуждении предлагаемой работы, в особенности Б.М. Гаспарову, П. Колаклидесу, В.Ф. Маркову, О. Ронену, М. и С. Сендеровичам, Л. Флейшману и Ю.К. Щеглову за ряд ценных замечаний и соображений.
[1] См., в частности, Riffaterre 1980, Шкловский 1969, Culler 1976: 55–74, Bo 1980.
[2] См. Якобсон 1981 (11961) и Жолковский 1979а.
[3] Ср. соображения М.Л. Гаспарова (1970: 18–22) о композиционном принципе «затухающего маятника» и его связи с темой ‘золотой середины’ у Горация.
[4] О поэтическом мире П. см. Жолковский 1980а, 1983: Ch. 7.
[5] Жолковский 1984; см. тж. Жолковский и Щеглов 1976, 1980b, Жолковский 1983.
[6] Речь идет именно о некой идеальной логике поэтического competence, а не о реальной истории сочинения в ходе performance.
[7] Понятие инвариантного мотива было внесено в современную поэтику никем иным, как Якобсоном (1979а [11937].
[8] – в отличие от естественного языка, где между семантикой, синтаксисом, морфологией и фонологией налицо как раз иерархические отношения.
[9] О соотносительности формулировок локальной и инвариантной тем см. Жолковский 1977: 91 сл., 1983: Ch. 3, § 5.
[10] Формулировка лок, стил «Ветра» призвана отразить срединное положение его структурной организации между текстами типа «Все сбылось», разделяющими многие из предметных и некоторые из стилистических черт «Ветра», но не его последовательно иконическую стилистику в целом, и, скажем, новаторской стилистикой раннего П., которая (например, установка на сдвиг лексической сочетаемости, см. Лотман 1969) должна отражаться уже в теме, наравне с предметными компонентами.
[11] Систематическое соотнесение стихов Юрия Живаго с текстом романа было предпринято в Дейви 1965, где о «Ветре» сказано (p. 86): “Inthe 16thsectionoftheCoclusion, LarasaystoZhivago’scorpse, ‘Yourgoing, that’stheendofme’. This poem is as it were Zhivago’s anticipating this response and answering it”.
[12] О важности этого различия см. Жолковский 1977. Примерегоигнорирования – соображенияДейви (1965: 77–8) освязимеждупожаромзакатав «Объяснении» ипохожимобразомвромане (VII, 16): “The episode seems to come into narrative for the sole purpose of being recalled by the reader when he gets to this poem, with its grotesque fancy of the sunset nailed to the wall…”. Мотив ‘проецирования’, в частности, ‘пригвождения нематериальных сущностей к физическим’ – частый инвариант П. (см. Жолковский 1977: 100–1), а не экзотическое отклонение от нормы, обязательно напоминающее о других сходных образах.
Что касается отсутствия в «Ветре» иных интертекстуальных тем. то, как всякое негативное утверждение, оно особенно рискует быть опровергнутым; отсюда осторожные вопросительные знаки в двух клетках Таблицы 1. О некоторых интертекстуальных элементах на уровне глубинного решения и компеозиции см. ниже, в чатсности в Прим. 33, 41.
[13] О мотивах типа ’экстаз бессилия’ см. Жолковский 1980а: 214, о ‘преодолении’ – Жолковский 1980b: 71 сл.
[14] Из стихов с утешительной или иной моралью упомяну еще «Разве только грязь видна вам…», «Послесловье», «Елене», «Образец», «Воробьевы горы», «Другу», «Столетье с лишним – не вчера…», «О, знал бы я…», «Весеннею порою льда…», «Смелость», «Смерть сапера», «Рассвет», «Быть знаменитым некрасиво…», «Дорога». См. тж. Табл. 3 в Приложении.
[15] См. сопоставление раннего и позднего П. в Нильссон 1978 и Ливингстон 1978.
[16] О мотиве «завтра», звучащего, как вчера, см. Жолковский 1983: Ch. 3, § 2.
[17] Эта открытость к пейзажу и готовность стушеваться перед ним – частый мотив П. (см. Жолковский 1978а: 16–19), особенно в эпических текстах, ср. строчки …не делалось разведок / По части пресловутых всяких чувств. / Таких вещей умели сторониться. / Предметы были громче их самих в «Спекторском» со словами из плача Лары по Живаго (XV, 15): «Они любили друг друга… не ‘опаленные страстью’… [a] потому что так хотели все кругом: земля под ними, небо над их головами, облака и деревья. Их любовь нравилась окружающим… больше чем им самим…» и т.д. Эта подчиненность окружению проявляется также в уже упомянутом пастернаковском метонимизме, «расчленении» лирического субъекта и разнесении его по пейзажу (Якобсон 1979b, Нильссон 1978). «Ветер» знаменательным образом использует обе техники.
[18] О мотиве ‘суть’ как манифестации ‘великолепия’ см. Жолковский 1980а: 220–1.
[19] Амбивалентность, вообще говоря, не характерна для П. (см. Жолковский 1977, 1983: Ch., 3 § 5), поэзия которого основана на восторженном принятии мира. Не амбивалентен также мотив ‘суть’ как таковой, близкими синонимами которого являются такие ‘великолепные’ категории как ‘самое главное, лучшее, высшее, …, превосходная степень и т.п.’, и который часто (в том числе у позднего П.) выступает в мажорно-экстатическом ключе (ср. напр. «Во всем мне хочется дойти…»). Не амбивалентен, наконец, и инвариантный у П. чисто риторический контраст ‘великолепно даже самое «не-великолепное» – обыденное, низкое и т.п.’. Однако в «Ветре» элемент ‘бедности, абстрактности, очищенности, отрицательности, мертвенности’, присутствующий в ‘сути, простоте’, актуализуется, а конструкция ‘великолепие не-великолепного’ осмысляется как ‘приятие смерти’. Таким образом «Ветер» знаменует существенный ценностный сдвиг, сопровождающий смену буйного молодого стиля более мудрым и прозрачным поздним (ср. интересные соображения о ‘старческой вялости’ этого последнего в Ливингстон 1978).
В качестве общей оговорки добавлю, что, возможно, во всей этой связи следует говорить все же не об амбивалентности, а, скажем, о включении ‘смерти’ в (моновалентно) позитивную картину мира.
[20] В качестве параллелей в поэзии П. ср. мотив ‘бессмертия, загробности’ в следующих стихах: «Рослый стрелок, осторожный охотник», «Рудник», «Лейтенант Шмидт» (III: 1, 8), «Ложная тревога», «Смелость», «Смерть сапера», «Сказка»; см. тж. Табл. 3. Существенная пушкинская параллель – мотив ‘превосходительного покоя’, в частности ‘загробного’, см. Жолковский 1980c.
[21] Ср. характерную мандельштамовскую конструкцию ‘я не увижу / не услышу…’, подчеркивающую, с элементами ностальгического дразнения, парадокс ‘иллюзорного обладания’ (см. Жолковский 1979b).
[22] «Растянутый» синтаксис характерен для П., ср. «Как усыпительна жизнь!…» (20 строк), «Любимая – жуть!..» (16); «Ну и надо ж было…» (все 12); «Высокая болезнь» (по 20 строк в двух фрагментах, начинающихся с Хотя…), «Лейтенант Шмидт», III, 17 (последовательности назывных предложений со сложным подчинением – свыше 14 строк), «Спекторский» (3 последние строфы в гл. I), «Весеннею порою льда…» (около 25); см. тж. Табл. 3 в Приложении.
Другой распространенный синтаксический турдефорс – сугубо назывная структура типа «Шопот, робкое дыханье, …» Фета; ср. Иванов 1981.
[23] «Неправильная», импровизированная строфика нередка у П., ср. «Десятилетье Пресни», «Из поэмы. Два отрывка» (1-й: «Я тоже любил…»), «Как усыпительная жизнь!», «Как у них», «Давай ронять слова…», «Послесловье», «Тема», «Высокая болезнь»; см. тж. Табл. 3. Часты и оригинальные построения, основанные на единой рифме или иных отклонениях от «нормальной» рифмовки, ср. «Распад», «Заместительница», «Мучкап», «Попытка душу разлучить», «Я не знаю, что тошней…», «Вторая баллада», «Смерть поэта», «Опять Шопен не ищет выгод…», «Пока мы по Кавказу лазаем…», «Никого не будет в доме», «Вакханалия» (заключительный отрывок), «Снег идет». Интересно, что во многих из этих стихов центральным эффектом является настойчивое повторение рифм на á, а в одном из них («Мучкап») – борьба между рифмами на á и на é, как в «Ветре».
[24] В «Заместительнице» единый период, преодолевающий точки, строится на сложной системе подчинительных связей, часто запутанных, с многочисленными инверсиями и переносами, под аккомпанемент скачущего ритма, создавая эффект порывистого движения (см. Жолковский 1978b: 419–421).
[25] Роль поэзии грамматики (и вообще «формы»), в особенности в «простых» стихах, остается недооцененной. Ср. взглядДейви (“…the professional poet… knows that in the end rhyme and meter… are… expendable… There are exceptions; poems in which rhyme… plays an unusually vital role” – 1965: 2) иегопрактику, см. Прим. 35.
[26] Ср. конструкции типа Вы всего себя стерли для грима. / Имя этому гриму – душа; И когда кладут припарки, / Плачут стекла первых рам, где метафора «наводится» связями по смежности и в то же время очень зрима физически, в том числе в поздних стихах: Средь заросли стоит лосиха. / Перед ней деревья в столбняке. / Вот отчего в лесу так тихо; Солнце садится, и пьяницей / Издали, с целью прозрачной / Через оконницу тянется / К хлебу и рюмке коньячной. В «Стихах Юрия Живаго» такие «софистические» метафоры довольно редки, ср., однако, Я таю сам, как тает снег в «Рассвете» и более «прямой» вариант метафоры из «Ветра» в «Магдалине II»: И земля качнется под ногами, / Может быть, из милости ко мне. Сам «Ветер», однако, нарочито «беден» в этом смысле.
[27] Об этом фрагменте (опубликованном в Пастернак 1969 и прокомментированном в Лотман 1969) см. Жолкеовский 1974: 12–14, 1983: Ch. 3, § 5.
[28] О мотиве ‘импровизационного хаоса’ у П. см. Жолковский 1980а: 216 сл.
[29] См. Гаспаров 1974: 91–95. Разумеется, применение статистических данных к структуре отдельного текста всегда рискованно.
[30] – в соответствии с общим принципом чередования циклов расширения и сжатия выразительной структуры, см. Жолковский 1983: Ch. 3, § 4.
[31] Ср., например: Ты спал, прижав к подушке щеку, / Спал – со всех ног, со всех лодыг; Врезаясь вновь и вновь снаскоку / В разряд … И вот, бессмертные на время, / …Сосновою смесь. Лимоны с ладаном дыша; Но сердца их бьются. … Силятся очнуться / И впадают в сон. / Сомкнувши веки. Выси. Облака. / Воды. Броды. Реки. / Годы и века. Ср. также «Сестра моя жизнь, и сегодня в разливе…», «Как усыпительная жизнь!..», «У себя дома» и Табл. 3. О связи ‘сна’ и ‘смерти’ в связи с «Августом») см. Флейшман 1977: 106–7, о центральной роли ‘сна’ в поэзии П. см. Цветаева 1981.
[32] Ср. также: «Весна» («Что почек…»), «Вторая баллада», «Во всем мне хочется дойти…», «Без названия» и мн. др.
[33] Дейви (1965: 86), напротив, отождествляет два ‘ветра’. В конечном счете, ‘ветер’ – единый мотив, один из важнейших в мире П. Помимо бесчисленных манифестаций в стихах (см. Табл. 3), ср. прямое высказывание П. (1960: 5) «Я… видел вселе6нную, не как картину на … неподвижной стене, а вроде… полотняной крыши или занавеси… которую… натягивает, развивает и хлещет какой-то непознаваемый ветер», Разумеется, разные тексты акцентируют разные аспекты ветра.
Ветер у П. может выступать как (i) воплощение буйной тревожности, (ii) существо, заинтересованное в людях, и (iii) фон, источник или партнер ‘текста’, ср. (i) «Пиры», «Десятилетие Пресни», «Петербург», «Матрос в Москве», «Лейтенант Шмидт» (I, 3), «Вторая баллада», «Старый парк», «Ночной ветер», «Ветер (Четыре отрывка о Блоке)»; (ii) «Двор», «Оттепелями из магазинов», «Душистою веткою машучи…», «Душной ночью», «Как у них», «Да будет», «Матрос в Москве», «Лейтенант Шмидт» (I, 3), «Вторая баллада», «Смелость», «Старый парк», «Ночной ветер», «Июль»; (iii) «Петербург», «Мчались звезды», «Нас мало…», «Косых картин…», «Брюсову», «Матрос в Москве», «Лейтенант Шмидт», (I, 3), «Вторая баллада», «Старый парк», «Ветер» (четыре отрывка о Блоке).
В мотиве ‘ветра’ не исключены (особенно в свете христианской тематики цикла) и библейские интертексты, в частности из Иоанн, III, 8: Дух [ветер] дышет, где хочет, в разговоре Иисуса с Никодимиом о рождении свыше [заново] (= втором рождении?!). Ср. прямую отсылку к кн. Бытия, I, 2 в «Мейерхольдам»: …режиссер, / Что носился как дух, над водою…, см. Жолковский 1980а: 216.
[34] ‘Контакт стихий и словесности’ принимает у П. две основные формы: либо ‘словесность, музыка, книга, и т.п. проникают в жизнь, пейзаж, воздействуют на них, и т.д.’ либо, наоборот, ‘жизнь, пейзаж и т.п. вторгаются в книгу, стихи, музыку, рождают их, и т.д.’. В «Ветре» применен именно второй тип контакта. Ср. «Весна» («Что почек…»), «Поэзия», «Спекторский», 6 «Волны», 5, «Путевые записки», 6, 7, 11, «Тишина», «Липовая аллея», а тж. столбец «Текст» в Табл. 3.
[35] О ‘распределительном контакте’ см. Жолковский 1982а.
[36] Об этом приеме выразительности см. Жолковский и Щеглов 1981.
[37] Пример последнего – в «Никого не будет в доме…», где в финале повторное проникновение мотивов ‘снега и зимы’ вместе с героиней в комнату дается, так сказать, с восклицательным знаком, см. Жолковский 1980b.
[38] Подобным ПРЕДВЕСТИЕМ (см. Жолковский и Щеглов 1980а) открываются многие лирические тексты. Риффатерр (1978: 19 etpassim) даже считает его универсалией поэтической структуры в составе трехчленной формулы matrix (? тема) – model («пролог») – text (текст). Присутствие «модели» особенно характерно для морализирующих текстов.
[39] ‘Перетекание’ осуществляется, помимо прочего, в виде тройственного, т.е. нечетного, членения на основные фазы и спорности любых более детальных членений (3 + 5 + 4? 4 + 4 + 4? 1 + 2 + 5 + 4?).
[40] См. об этом Жолковский 1978а: 24–27.
[41] Метафора ‘отдельное/неотдельное дерево = героиня’ и выбор на роль ‘дерева’ именно ‘сосны’, по-видимому, имеет и внепастернаковские интертекстуальные коннотации, подкрепляющие и оживляющие образ. Особенно вероятным представляется (предложенный мне Б.М. Гаспаровым) диалог с лермонтовской сосной, которая стоит одиноко, дремлет, качаясь и видит сны о далекой пальме, – ввиду существенных связей поэзии П. с Лермонтовым, параллелей между разлукой сосны и пальмы и разлукой героев в романе (а также П. с О. Ивинской) и возможной ассоциации раннепастернаковских мотивов типа А там, вдали, у Альп Германии с цитированием Гейне. Лермонтовский интертекст, возможно, проходит в «Ветре» и еще раз (парус одинокий, ветер свищет, мачта гнется, покой; Б.М. Гаспаров). Менее обязательна, на мой взгляд, параллель (О.Ронена) с блоковским «Утихает светлый ветер..»: общий с «Ветром» комплекс ‘разлука – ветер – сосна – сон – музыка (струна)’ реализован там существенно иначе, в частности, в связи с мотивом ‘любовной измены’, и интересен скорее типологически, нежели интертекстуально.)
[42] Так ‘колыбельность’ сказывается на выборе четверостишия как строфической доминанты стихотворения.
[43] Наст. вр., незаметное благодаря эллипсису, позволяет, как мы помним, представить загробное всеведение как репортаж очевидца.
[44] Эти существенные строфические эффекты сохранены лишь в одном из известных мне английских переводов – Марков и Спаркс 1967: 604–5 (ср., напротив, Кайден 1967, Кэмен 1962, Дейви 1965, Слейтер [Пастернак–] 1958). Немецкая переводчица (Холбек 1965) следует оригиналу по крайней мере в обмане рифменного ожидания в 4-й строке, но меняет рифмовку после 9-й строки (аВВСаСаСdEdE), тем самым усиливая эффект ‘прояснения’ в финале за счет ‘единства, непрерывности, целого’.
[45] О формах ямба см. Тарановский 1971, Гаспаров 1974: 39–126; о словоразделах – Томашевский 1929: 94–135.
[46] Последовательности типа X–V–V обычно читаются как дробление.
[47] Трехстрочный фрагмент в контексте «квадратных» структур (четверостиший, ‘двучастности’) вообще предрасположен к незамкнутости, поддержанной здесь дробностью 2-й и 3-й строк:
[48] ‘Смазывание, стирание границ’ в самых разных планах – важный инвариант П., ср. Жолковский 1974: 14, 25.
[49] Этот эффект полностью утрачен, например, в переводе Дейви: Notthepinetrees, onebyone.
[50] Акцент на 3-й стопе подчеркнут также полноценным ямбическим мужским словоразделом, вообще более редким, чем женский (во всяком случае у Пушкина, см. Томашевский 1929: 107–18), и более резким фонетически. Мужской словораздел вернется (уже в иных условиях) лишь в 11.
[51] Применяется техника, использованная в строках 2–3.
[52] Список ‘неспровоцированных скачков к морю’ легко продолжить: ср. «К Октябрьской годовщине», 3 («Густая слякоть клейковиной…»), «Спекторский», 5 (…Что-то в нем росло / … / Как будто что-то плавно и без слов / Навстречу дому близилось на веслах…), «Смерть сапера», а также многие из стихов с плюсом в столбце № 14 («Бухта») в Табл. 3. В «Ветре» мысль о море дополнительно мотивирована устойчивой ассоциацией Лары с морем в романе, см. Дейви 1965: III-2 etpassim.
[53] См. Жолковский 1980а: 224.
[54] Соображениями о композиционном пике в 6-й строке я обязан М. и С. Сендеровичам.
Приложение
Параллели к «Ветру»
С целью продемонстрировать родство «Ветра» с лирикой П., ниже предлагается Табл. 3, сопоставляющая его со стихами, сходными по набору мотивов (motifclusters, ср. Сперджон 1935). Сразу же подчеркну ее рабочий характер. Обследовалась только лирика, и применялся грубый количественный критерий (не менее пяти общих с «Ветром» мотивов), игнорирующий длину текстов, порядок следования мотивов, способ и тесноту связи между ними и т.д. Выбор самих мотивов ориентировался (в основном на-глаз) на глубинную структуру «Ветра», но с учетом его поверхностных черт, а также инвариантов П. (инварианты самого абстрактного уровня – ‘всеобщность’, ‘дрожь, раскачивание’, метафора, парономасия и т.п. – не учитывались).
Мотивы (столбцы таблицы) взаимно независимы (пограничные случаи пренебрежимо редки). Некоторые мотивы «укрупнены» больше, чем другие: ср., например, широчайшую категорию ‘текст’ и более узкую ‘ветер’. Кратко поясню условные термины, вынесенные в заголовки столбцов.
1. Тоска: тоска, плач, …ярость, бесцельность и иные отрицательные состояния.
2. Смерть: смерть, могила,…
3. Бессмертие: загробность, воскресение, … вечность, … ирреальное существование, …
4. Сон: сонность, пробуждение, бессонница, …
5. Жизнь: жизнь, присутствие,…
6. Утешение: утешение, мораль, …
7. Прояснение: простота, суть, осмысление, …
8. Текст: слова, стихи, искусство (музыка, живопись), вдохновение, книга, …
9. Я/ты – любовь: обращение на ты (вы), любовь, поцелуи,…
10. Ветер: ветер, воздух, вьюга, … (но не ‘снег’ или ‘дождь’).
11. Дерева: деревья вообще или их виды, лес, сад, ветви, …
12. Дача: дом, крыша, окно, церковь, …
13. Даль: даль, вдали, простор, ширь, широты, …
14. Бухта: море, воды, озеро, корабль, парус, пристань, …
15. Строфика: нерегулярные строфы, единая рифмовка.
16. Период: растянутый (подчинительный, сочинительный, назывной) синтаксис.
В табл. 3 №№ 1–60 и 71–89 в изд. Пастернак 1965: №№ 61–70 в изд.
|
Таблица 3. Параллели к «Ветру» |
|||||||||||||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
№ |
Стр. |
Тоска |
Смерть |
Бес-смертие |
Сон |
Жизнь |
Уте-шение |
Прояс-нение |
Текст |
Я/ты любовь |
Ветер |
Дерева |
Дача |
Даль |
Бухта |
Стро-фика |
Пе-риод |
|
1. |
65 |
+
|
|
|
|
|
|
|
+ |
+ |
+ |
|
|
|
|
|
+
|
|
2. |
67 |
+ |
|
|
+ |
|
|
|
|
+ |
+ |
+ |
+ |
|
|
|
|
|
3. |
72 |
+ |
+ |
|
|
|
|
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
|
|
|
|
|
4. |
74 |
+ |
|
|
|
|
+ |
|
+ |
|
+ |
|
+ |
|
+ |
|
|
|
5. |
75 |
+ |
|
|
+ |
|
|
|
+ |
|
+ |
|
+ |
+ |
+ |
+ |
|
|
6. |
77 |
|
+ |
+ |
+ |
|
|
|
+ |
+ |
+ |
|
+ |
|
|
|
|
|
7. |
79 |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
|
+ |
|
+ |
|
+ |
|
+ |
|
|
|
8. |
100 |
+ |
|
+ |
+ |
+ |
+ |
|
+ |
|
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
9. |
107 |
+ |
|
+ |
|
+ |
|
+ |
+ |
|
+ |
+ |
+ |
|
+ |
|
|
|
10. |
112 |
+ |
|
|
+ |
|
|
|
+ |
|
|
+ |
|
+ |
|
+ |
|
|
11. |
121 |
+ |
+ |
|
|
|
+ |
|
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
|
|
|
|
12. |
134 |
|
|
+ |
+ |
|
+ |
|
|
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
|
|
13. |
135 |
+ |
|
+ |
+ |
|
|
|
+ |
|
+ |
+ |
+ |
+ |
|
+ |
|
|
14. |
136 |
+ |
+ |
|
+ |
|
|
|
|
+ |
|
|
|
|
|
+ |
|
|
15. |
137 |
+ |
|
|
|
|
|
|
|
+ |
|
|
|
|
+ |
+ |
|
|
16. |
140 |
+ |
|
|
|
|
|
+ |
|
+ |
|
|
|
|
+ |
+ |
|
|
17. |
152 |
+ |
+ |
+ |
|
|
|
|
+ |
+ |
|
+ |
|
|
+ |
|
|
|
18. |
162 |
|
+ |
|
|
|
|
|
+ |
|
+ |
|
|
|
+ |
+ |
+ |
|
19. |
165 |
+ |
|
|
+ |
|
|
+ |
+ |
|
+ |
|
|
+ |
+ |
|
|
|
20. |
167 |
+ |
|
|
+ |
|
|
|
|
|
+ |
|
+ |
+ |
+ |
|
|
|
21. |
170 |
+ |
|
|
|
|
+ |
|
|
+ |
+ |
|
+ |
|
+ |
|
+ |
|
22. |
171 |
+ |
+ |
|
|
+ |
+ |
|
+ |
|
|
|
+ |
|
|
|
|
|
23. |
175 |
|
|
|
|
|
+ |
|
|
+ |
+ |
+ |
|
|
+ |
+ |
+ |
|
24. |
175 |
+ |
|
|
+ |
|
+ |
+ |
|
+ |
+ |
|
|
+ |
+ |
+ |
+ |
|
25. |
178 |
+ |
|
|
+ |
+ |
|
|
+ |
|
|
+ |
+ |
|
+ |
|
|
|
26. |
179 |
+ |
|
|
|
|
|
|
+ |
|
+ |
+ |
+ |
|
|
|
|
|
27. |
180 |
|
|
|
|
|
+ |
|
+ |
|
+ |
|
|
+ |
|
|
|
|
28. |
182 |
|
|
|
+ |
|
|
+ |
|
+ |
|
+ |
|
|
+ |
+ |
|
|
29. |
194 |
+ |
|
|
|
|
|
|
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
|
|
|
|
30. |
196 |
+ |
+ |
|
+ |
+ |
|
|
+ |
+ |
+ |
|
+ |
|
|
+ |
|
|
31. |
199 |
+ |
|
|
|
|
|
|
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
|
|
32. |
201 |
+ |
|
+ |
|
|
+ |
|
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
+ |
|
|
|
33. |
211 |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
|
+ |
|
|
+ |
|
34. |
213 |
+ |
|
|
|
|
|
|
+ |
+ |
|
+ |
+ |
+ |
|
|
|
|
35. |
223 |
+ |
|
|
|
|
|
|
+ |
|
+ |
|
+ |
|
+ |
|
|
|
36. |
350 |
|
+ |
+ |
|
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
+ |
|
|
+ |
|
|
|
37. |
353 |
+ |
|
+ |
+ |
+ |
+ |
|
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
+ |
+ |
|
|
38. |
354 |
|
+ |
+ |
|
|
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
+ |
|
|
39. |
356 |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
+ |
+ |
|
+ |
+ |
|
+ |
+ |
|
|
40. |
357 |
+ |
|
+ |
|
|
|
+ |
+ |
|
|
+ |
+ |
|
|
|
|
|
41. |
358 |
+ |
|
+ |
|
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
+ |
+ |
+ |
+ |
|
|
|
42. |
358 |
+ |
|
|
|
+ |
+ |
|
+ |
|
+ |
+ |
+ |
+ |
|
|
|
|
43. |
359 |
+ |
|
|
+ |
+ |
+ |
+ |
|
+ |
+ |
|
|
|
|
|
|
|
44. |
362 |
+ |
+ |
+ |
|
|
+ |
|
+ |
+ |
|
+ |
|
+ |
|
|
|
|
45. |
363 |
+ |
+ |
+ |
|
|
+ |
+ |
+ |
|
|
+ |
|
|
|
+ |
|
|
46. |
365 |
+ |
|
+ |
|
|
+ |
+ |
|
+ |
|
|
+ |
|
|
+ |
|
|
47. |
366 |
+ |
|
|
+ |
+ |
|
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
|
|
|
+ |
|
48. |
366 |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
|
+ |
|
|
+ |
+ |
|
|
|
+ |
|
49. |
370 |
+ |
+ |
|
+ |
+ |
+ |
|
|
+ |
|
+ |
|
+ |
+ |
+ |
+ |
|
50. |
371 |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
|
|
|
|
|
+ |
|
|
|
|
51. |
372 |
+ |
+ |
|
+ |
|
+ |
|
+ |
+ |
+ |
|
+ |
|
|
+ |
|
|
52. |
373 |
+ |
+ |
+ |
|
|
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
|
|
|
53. |
384 |
|
+ |
+ |
|
+ |
|
|
+ |
|
|
+ |
+ |
+ |
|
+ |
|
|
54. |
385 |
|
+ |
+ |
+ |
|
+ |
+ |
+ |
+ |
|
+ |
+ |
+ |
+ |
|
|
|
55. |
393 |
|
+ |
+ |
|
|
|
+ |
+ |
|
|
+ |
|
|
|
|
|
|
56. |
396 |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
|
|
|
|
|
+ |
|
+ |
+ |
|
|
|
57. |
399 |
+ |
+ |
|
+ |
|
+ |
|
+ |
|
+ |
+ |
+ |
|
|
|
|
|
58. |
405 |
|
|
|
+ |
|
|
|
+ |
|
|
+ |
|
|
+ |
+ |
|
|
59. |
412 |
+ |
+ |
+ |
|
+ |
+ |
+ |
+ |
|
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
|
|
60. |
425 |
+ |
|
|
+ |
|
+ |
+ |
+ |
|
|
+ |
+ |
+ |
|
|
|
|
61. |
601 |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
+ |
|
+ |
|
+ |
+ |
+ |
|
|
+ |
|
|
62. |
620 |
+ |
|
+ |
+ |
|
+ |
+ |
|
+ |
|
+ |
+ |
+ |
|
|
|
|
63. |
622 |
+ |
|
+ |
+ |
|
|
|
+ |
|
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
64. |
625 |
|
|
+ |
+ |
|
+ |
|
|
+ |
+ |
+ |
+ |
|
|
|
|
|
65. |
626 |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
|
|
|
+ |
+ |
+ |
|
|
|
+ |
|
|
66. |
627 |
+ |
|
|
|
|
+ |
+ |
+ |
|
+ |
+ |
+ |
+ |
|
+ |
|
|
67. |
628 |
+ |
|
+ |
+ |
|
|
|
+ |
|
|
|
+ |
|
+ |
|
+ |
|
68. |
636 |
+ |
+ |
+ |
|
+ |
|
|
|
+ |
|
+ |
|
|
|
+ |
|
|
69. |
631 |
+ |
|
+ |
|
+ |
+ |
+ |
|
+ |
|
+ |
|
+ |
|
|
|
|
70. |
632 |
+ |
+ |
+ |
|
+ |
+ |
|
+ |
|
+ |
+ |
|
+ |
+ |
|
|
|
71. |
446 |
+ |
+ |
|
|
|
|
+ |
+ |
|
|
+ |
|
|
|
|
+ |
|
72. |
449 |
+ |
|
|
|
|
+ |
+ |
+ |
+ |
|
|
+ |
|
|
|
|
|
73. |
455 |
+ |
|
+ |
+ |
|
|
+ |
+ |
|
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
|
|
74. |
458 |
+ |
|
|
|
|
|
+ |
|
|
+ |
+ |
+ |
|
|
|
|
|
75. |
459 |
|
|
|
|
|
|
|
+ |
|
|
+ |
+ |
|
+ |
|
+ |
|
76. |
461 |
|
|
+ |
|
+ |
|
|
+ |
|
|
+ |
+ |
|
|
|
+ |
|
77. |
464 |
+ |
+ |
|
|
|
|
|
+ |
|
+ |
+ |
+ |
|
|
|
|
|
78. |
466 |
|
|
+ |
|
+ |
+ |
|
|
|
|
|
+ |
+ |
+ |
|
|
|
79. |
467 |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
+ |
|
+ |
+ |
+ |
|
|
|
|
|
80. |
471 |
+ |
|
|
|
+ |
|
|
+ |
|
|
|
+ |
|
|
+ |
|
|
81. |
473 |
+ |
+ |
|
+ |
|
|
+ |
+ |
|
|
+ |
+ |
|
+ |
|
|
|
82. |
474 |
+ |
|
|
|
+ |
+ |
+ |
+ |
|
+ |
+ |
+ |
|
|
|
|
|
83. |
480 |
+ |
|
+ |
+ |
|
|
+ |
|
|
|
+ |
+ |
|
|
+ |
|
|
84. |
482 |
|
|
+ |
|
|
+ |
|
+ |
|
|
+ |
|
+ |
|
|
|
Проиллюстрирую таблицу цитатами из десятка стихотворений, особенно сходных с «Ветром», указывая в угловых скобках номера мотивов.
№ 9: «Марбург»: Я мог быть сочтен / Вторично родившимся. Каждая малость / Жила… <3, 5> … и ветер, как лодочник, греб / По липам … <10, 14, 11> … как сызнова учат ходьбе / Туземца планеты на новой планиде <3, 5>. В тот день всю тебя… / Как трагик в провинции драму Шекспирову <8,9> Когтистые крыши. Деревья. Надгробья. / И все это… / …живо <2, 12, 11, 5> Тоска пассажиркой скользнет по томам <1, 8> Чего же я трушу?.. / Ведь я как грамматику, / Бессонницу знаю… <1, 6, 8, 4, 7>.
№ 24: «Мой друг, мой нежный…» <9>: …как труп запертого до самых труб норвежца <2, 14> … спи, утешься / …угомонись, не плачь / … / …спи, забудь, все вздор один <9, 4, 6, 1, 7> + разностопный ямб <15?> + все 12 строк – одно предложение <16>.
№ 31: «Анне Ахматовой»: …мокрых кровель говорок <12, 8> Вдыхая дали ладожскую гладь <13, 14> …ныряет / Горячий ветер и колышет веки / Ветвей… <10, 11> Но самой страшной крепости раствор – / Ночная даль… <1, 7, 13> Таким я вижу облик ваш и взгляд <9> Испуг оглядки к рифме прикололи <1, 8> …прозы пристальной крупицы <8, 7>.
№ 33: «Брюсову»: Я поздравляю вас… <9> …Брюсова горька / Широко разбежавшаяся участь <1> Что сонному гражданскому стиху / Вы первый настежь в город двери открыли? / Что ветер смел с гражданства шелуху…? / … / …нас не умирать учили <2, 3> Что запросто болтает с тенью Гамлет. / Так запросто же… / Так легче жить… <3, 7, 5> + период в 16 строк <16>.
№ 37: «Вторая баллада»: Как флот в трехярусном полете, / Деревьев паруса кипят / … / Гребут березы и осины <14, 11> На даче спят под шум без плоти <12, 4, 2?>. Под ветра яростный назад <8, 10, 11> Я просыпаюсь. Я объят / Открывшимся. Я на учете. / Я на земле, где вы живете <4, 7, 2-3-5, 9> …Я вижу сон: я взят / обратно в ад… / И женщин в детстве мучат тети <4, 2> Спи быль. Спи жизни ночью длинной. / + балладная строфа на 3 рифмах <15>.
№ 47: «Ты здесь, мы в воздухе одном…» <9, 5, 10>: …тихий Киев за окном, / Который спит, не опочив <12, 4> Устало тополя толпятся <10> И, перечтя его [полдень] с азов, / Вписать в него твое соседство <8, 7, 5, 9> + период в 12 строк <16>.
№ 49: «Пока мы по Кавказу лазаем»: Как обезглавленных гортани / … / Казненных замков очертанья <2> …рощи вязовые / Курчавится лесная мелочь <11> …о что мне делать? <1> …моя далекая / …в дали Германии <9, 13> Не бойся снов, не мучься, брось / … / Смотри, и рек не мыслит врозь / Существованья ткань сквозная <9, 1, 4, 5, 6, 14> + вольная строфика, 9 рифм на б подряд <15> + период в 16 строк <16>.
№ 54: «Безвременно умершему»: Ты не узнаешь смерти, / Хоть через час сгоришь <3, 2> Идем вторым изданьем <8, 3> Как ветка пустит паветвь, / Найдут и воскресят <11, 3> Кривые ветви ольшин, / Как реквием в стихах <11, 8, 2, 3> Окраин, рощ и вод <13, 11, 14> Из комнаты с венками <12, 2> Прощай. Нас всех рассудит / Невинность новичка. / Покойся. Спи. Да будет / Земля тебе легка <2, 6, 7, 4, 9>.
№ 59: «Старый парк» <11>: …дом отцов <12> Солнце… / Вот оно в затон впилось / И оттуда длинной спицей / Протыкает даль насквозь <14, 13> Вихрь качает липы… / … / И больной, под стоны сучьев / Забывает про ступню <1, 10, 11, 6> Прадеда-славянофила / Пересмотрит и издаст <3, 8> …напишет пьесу / … / …жизни… / Невообразимый ход / Языком провинциала / В строй и ясность приведет <8, 6, 5, 7>.
№ 66: «Земля»: В московские особняки <12> О чем в случайном разговоре / С капелью говорит апрель. / Он знает тысячи историй / Про человеческое горе <8, 1> И всюду воздух сам не свой. / И тех же верб сквозные прутья / … / И на окне и на распутье <10, 11, 12> Зачем же плачет даль в тумане <1, 13> На то ведь и мое призванье / Чтобы… / … / Земле не тосковать одной <6, 8, 1> + вольная строфика, последние 6 рифм на б <15>.
В заключение подчеркну, что место мотивных гнезд в предлагаемом формате описания не совсем ясно – отсюда их вынос в Приложение. Каждая отдельная пара совстречающихся мотивов (‘ветер’ + ‘деревья’; ‘смерть’ + ‘сон’; ‘бессмертие’ + ‘текст’; ‘длинный период’ + ‘вольная строфика’; и т.п.) объяснима естественными (тематическими и/или риторическими) соображениями. Однако устойчивость целых гнезд представляется своего рода идиоматикой поэтического мира автора (= словаря его мотивов). Эту идиоматику следует, прежде всего, адекватно констатировать. Затем уже ей можно искать объяснения в мифологических, психоаналитических или иных архетипах.
Литература
Bo 1980 Linda R.Waugh, “The Poetic Function and the Nature of Language”, Poetics Today 2, 1a, 57–82.
Гаспаров М.Л. 1970 «Поэзия Горация», в кн. Квинт Гораций Флакк. Оды, Этюды, Сатиры, Послания (Москва).
1974 Современный русский стих. Метрика и ритмика (Москва).
Дейви 1965 The Poems of Dr. Zhivago. Translated with a Commentary by Donald Davie (New York).
Жолковский А.К. 1974 «К описанию смысла связного текста» V [Пастернак]. Предварительные публикации ПГЭПЛ, вып. 61 (Москва).
1977 A.K. Žolkovskij, “On Three Analogies Between Linguistics and Poetics”, PoeticsVI, 77–106.
1978a «Место окна в поэтическом мире Пастернака», RussianLiteratureVI–I, 1–38.
1978bA.K. Žolkovskij, “How to Show Things with Words”, Poetics VIII, 405–430.
1979a «Инварианты и структура текста ‘Я вас любил’ Пушкина», RussianLiteratureVIII–I, 1–25.
1979b «Инварианты и структура текста II. Мандельштам: ‘Я пью за военные астры…’», SlavicaHierosolymitana4, 159–84.
1980a «Инварианты и структура поэтического текста. Пастернак», в кн. Жолковский и Щеглов 1980b, 205–40.
1980b «Тема и вариации. Пастернак и Окуджава: опыт сопоставительного описания», в кн. Жолковский и Щеглов 1980b, 61–86.
1980c «‘Превосходительный покой’: об одном инвариантном мотиве Пушкина», в кн. Жолковский и Щеглов 1980b, 87–114.
1982a A.K. Zholkovsky, “‘Distributive Contact’: a Syntactic Invariant in Pasternak”, Wiener Slawistischer Almanach 9, 119–149.
1982b «Поэтика выразительности (= ‘порождающая поэтика’ = модель ‘Тема Текст’): К истории термина и концепции» (Введение), RussianLiteratureXI–I (SpecialIssue), 1–17.
1982c «Поэтический мир как система инвариантов и задачи сопоставительной поэтики»,RussianLiteratureXI–I (SpecialIssue), 91–110.
1983 Alexander Zholkovsky, Themes and Texts. Essays in a Poetics of Expressiveness (Ithaca N.Y./ London – forthcoming).
1984 A.K. Zolkovsky, “Poems”, in: T.A. van Dijk, ed., Handbook of Discourse Analysis vol. III (London – forthcoming).
Жолковский А.К. и Ю.К. Щеглов 1976 Математика и искусство (Поэтика выразительности) (Москва).
1980а «О приеме выразительности ПРЕДВЕСТИЕ», в кн. Жолковский и Щеглов 1980b, 13–46.
1980b «Поэтика выразительности», сборник статей, WienerSlawistischerAlmanach(SpecialIssue, II).
1981 «О приеме выразительности ОТКАЗ», SlavicaHierosolymitanaV–VI, 277–288.
Кайден 1967 The Poems Dr. Zhivago. By Boris Pasternak. Translated from the Russian by Eugene M. Kayden (Kansas City, Missouri).
Каллер 1976 Jonathan Culler, Structuralist Poetics (Ithaca, N.Y.).
Кэмен 1962 Boris Pasternak. In the Interlude, Poems 1945–1960. Translated into English verse by Henry Kamen (London).
Ливингстон 1978 Angela Livingstone, “Pasternak’s Last Poetry”, in: Pasternak. A Collection of Critical Essays, ed. by Victor Erlich (Englewood Cliffs, N.J.), 166–75.
Лотман Ю.М. 1969 «Стихотворения раннего Пастернака и некоторые вопросы структурного изучения текста», Труды по знаковым системамIV (Тарту), 206–238.
Маркови Спаркс 1967 Vladimir Markov and Merrill Sparks, Modern Russian Poetry. An Anthology with Verse Translations (New York).
Нильссон 1978 (11959) Nils Ake Nilsson, “Life as Ecstasy and Sacrifice. Two Poems by Boris Pasternak”, in: Victor Erlich, ed., Pasternak. A Collection of Critical Essays (Englewood Cliffs., N.J.).
Пастернак Борис 1958 Boris Pasternak, Doctor Zhivago (New York). Translated by Max Hayward and Manya Harari; “The Poems of Yurii Zhivago” by Bernard Guilbert Guerney (New York)
1959 Доктор Живаго. Роман (Париж).
1960 Boris Pasternak, Three Letters, Encounter XV, 2 (Aug. 1960), 3–6.
1965 Стихотворения и поэмы (Москва).
1969 «Первые опыты Бориса Пастернака», публикация Е.В. Пастернак, Труды по знаковым системам IV (Тарту), 239–281.
Риффатерр 1978 Michael Riffaterre, Semiotics of Poetry (Bloomington/London).
1980 (11966) “Describing Poetic Structures: Two Approaches to Baudelaire’s ‘Les Chats’”, in: Jane P. Tompkins, ed., Reader–Response Criticism (Baltimore/London), 26–40.
Слейтер (Пастернак–) 1963 Pasternak. Fifty Poems. Chosen and translated by Lydia Pasternak-Slater (London).
Сперджон 1935 Caroline Spurgeon, Shakespeare’s Imagery and What It Tells Us (New York).
Тарановский Кирил 1971 «О ритмической структуре русских двусложных размеров», в кн. Поэтика и стилистика русской литературы. Памяти акад. В.В. Виноградова, М.П. Алексеев, ред. (Ленинград), 420–429.
Томашевский Б.В. 1929 О стихе. Статьи (Ленинград).
Флейшман Л. 1977 Статьи о Пастернаке (Bremen).
Холбек 1965 Boris Pasternak. Gedichte von Jurij Zhivago. Übertragung aus dem Russischen Mary von Holbeckn (Frankfurt a/M.).
Цветаева Марина 1981 (11933) «Поэты с историей и поэты без истории. (Статья о Б.Пастернаке)», в кн. Глагол (AnnArbor), 197–240.
Шкловский В.Б. 1969 «Поэзия грамматики и грамматика поэзии», Иностранная литература,
6, 218–224.
Якобсон Роман 1979a (11937) “The Statue in Pushkin’s Poetic Mythology”, в кн. Якобсон-Избр. IV, 237–280.
1979b (11935) “Randbemerkungen zur Prosa des Dichters Pasternak”, в кн. Якобсон-Избр., V, 416–432.
1981 (11961) «Поэзия грамматики и грамматика поэзии», в кн. Якобсон-Избр., IV, 87–97.
Якобсон-Избр. 1979, 1981 Roman Jakobson, Selected Writings, vv. IV, V (The Hague/Paris/New York).